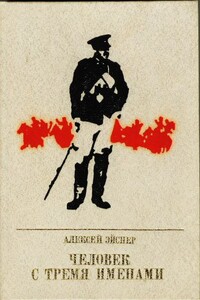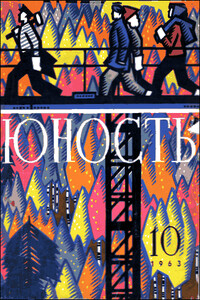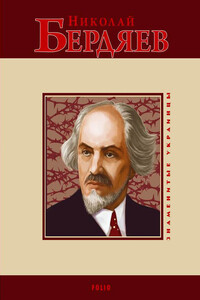Редактор «Восточного обозрения» Иван Иванович Попов кликнут был с утра в Белый дом к генерал-губернатору «на распеканцию».
Горемыкин встретил Попова нетерпеливо, даже дверь перед ним распахнул:
— Кто вы такой?! Что вам здесь нужно?! Подавайте свое прошение по почте! Я вам не фельдъегерь!
Генерал-губернаторские шары катились из раскрытой двери вниз, подпрыгивая на лестнице. Митрич, вязавший свой неизменный гарусный чулок, поддувал в дремучие свои усы, будто остужал горячее. И, странно, там, наверху его превосходительство мало-помалу остужался.
Александр Дмитриевич сорвал со стола свежий нумер и размахивал им перед Иваном Ивановичем, как боевым штандартом:
— Это не статья! Это плевок в гроб великого монарха! У вас там — гнездо каторжников, которое разорить ничего не стоит! Мое снисхождение к вам — преступление перед троном!
Горемыкин швырнул газету на паркет (опустилась по-птичьи), ступил на нее, шагнул к окну и скрестил на груди руки (Наполеон), став спиною к Попову. Иван Иванович выждал, соблюл паузу и приличным голосом сказал:
— Ваше превосходительство, мы не могли дать надлежащую характеристику прошедшему царствованию. Она бы не была цензурной. (Горемыкин хмыкнул и слегка, на четверть, повернулся от окна, не разнимая рук.) Если бы мы ничего не сообщили о кончине государя — это была бы недостойная демонстрация. (Горемыкин медленно разнял руки.) К политике Александра Третьего мы, мы все (подчеркнул, пристально вглядываясь в Горемыкина), мы все относимся отрицательно, быть может, сейчас в Петербурге ее пересматривают.
Горемыкин повернулся к Попову, как бы желая спросить «неужели» и получить утвердительный ответ.
— Всё? — резко спросил генерал-губернатор, как рявкнул. — Пересматривают… — И — тише. — Откуда вам знать, что там пересматривают? Ступайте…
Попова увидели из окна. Он, подняв шляпу с нарочитой торжественностью, не переходил — пересекал Большую, засыпанную почерневшими после первой, еще но стаявшей крупы листьями. Небо над Белым домом голубело морозно, чисто и весело.
— Со щитом! — прогремел Заичневский и все бросились вниз, встречать. Петр Григорьевич знал, что в сердцах этих славных людей, ведавших опасность и самое смерть, все-таки, несмотря на очевидную победу, бодрящую лицо Попова, несмотря на его жест и его нарочито величавую походку, все-таки шевелилась унылая лягушка: неужели не закрыли газету? Ну, пусть не закрыли, так хоть неужели не арестовали? Будто были они оскорблены тем, что начальство оставило их в покое.
Петр Григорьевич вышел за всеми и удивился, как эта толпа, запрудившая дворик музея, могла только что умещаться в крошечном флигеле. Попова обнимали, пытались качать, кричали, смеялись, кто-то даже собирался петь. Это была демонстрация, которую нельзя было не увидеть из губернаторского дворца.
Говорили, что во всей империи выходку с поминовением царя, кроме «Восточного обозрения», позволила себе еще одна маленькая газета «Восход». Кажется, в Минске.
У Станислава Лянды пили чай из переваловского фаянса. Чашечки были невелики. Содержимое полностью умещалось в глубоком блюдце. Пить чай из блюдца — манера театрально-купеческая почему-то занимала всех. За столом среди прочих гостей находился московский купец Лука Семенович Коршунов — плотный, небольшого роста, лет пятидесяти, в льняной неседеющей бороде, подбритой со щек, и стриженный модно, как, впрочем, и одетый в модный сюртук. Он держал зеленоватую чашечку за ушко, слегка отставив мизинец с небольшим колечком-печаткой.
Чаепитие веселило Петра Григорьевича: Лукашка нагляделся сызмальства, как управляться с посудой. Потому что был он, Лука Коршунов, молочным братом Петра Григорьевича, сыном кормилицы Акулины, то есть в прошлом крепостным человеком Заичневских.
Коршунов вдовел. Сын его Евграф находился в настоящее время в Манчестере, поскольку у Луки Семеновича была дальняя мысль выкупать у казны сникающие, идущие с молотка металлургические заводы (уже один купил в Бахмуте), и нужен был делу образованный хозяин, не ровня основателю дома. Сюда же, в Иркутск, Лука Семенович явился присмотреться и заодно повидать ссыльного своего братца-барина. Лука Семенович считал Жизнь Петра Григорьевича подвижнической, поскольку видел в революционерах определенную надежду русской промышленности: свалить бессмысленное самодержавие и поставить над державою такой закон, по которому первыми людьми государства были бы люди дела. Впрочем, насчет царя Лука Семенович воздерживался, полагая, что не в царях беда, а в псарях…