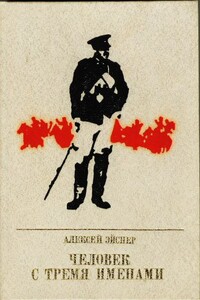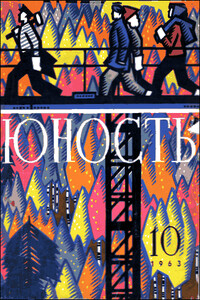Покровитель Восточно-Сибирского Отделения Императорского Российского Географического Общества, генерального штаба генерал-лейтенант, генерал-губернатор Восточной Сибири Александр Дмитриевич Горемыкин жительство имел неподалеку от музея — только дорогу перейти. В музей он захаживал часто, как бы ради прогулки, но местные лица знали, что музей сей есть сокрытая любезная сердцу привязанность строгоподобного, вздорного владыки и распекателя здешнего края.
Над Горемыкиным пошучивали. Кто-то подсчитал, что каждые десять лет иркутских генерал-губернаторов оскорбляют действием. В семьдесят третьем году краснодеревщик Эйхмиллер дал оплеуху Синельникову. В восемьдесят третьем учитель Неустроев ударил Анучина. Оба были расстреляны. Срок Горемыкина прошел. Да и времена настали другие…
Заичневский считал (и с ним соглашались многие острословы), что генерал-лейтенант Горемыкин, в душе своей, в тайне от самого себя, весьма сочувствует сибирским страстям. Разумеется, по долгу службы он не терпел и не мог терпеть никаких завиральных идей, но всякий присланный из Санкт-Петербурга правитель, куда бы он ни был прислан, прежде всего полагал себя первым патриотом вверенного ему края, а следовательно, испытывал некоторую ревность к завиральным идеям, в здешнем крае укоренившимся. По крайней мере Петр Заичневский, видавший разных начальников в разных краях, давно успел отметить такое свойство.
— Вот увидите, господа, — говорил Заичневский, — когда знамя сепаратистов взметнется над Сибирью, Александр Дмитриевич выставит свою кандидатуру на президентских выборах от умеренных радикалов! И, вообразите, будет избран!
Неизвестно, дошла ли сия прогностика до генерал-губернаторского розового с удлиненной мочкой уха, но как-то, увидав Заичневского в Собрании и делая вид, что не видит его, Александр Дмитриевич сказал как бы á парте, ни к кому не обращаясь, и того меньше — к Заичневскому:
— Шутки шутите, милсдарь?..
Оснований для сего á парте было немало, и Заичневский, не уяснив, какие его шутки зацепили начальство, поклонился, не вдаваясь в подробности.
Однако здесь, во дворе музея, возле редакции «Восточного обозрения», столкнувшись с Горемыкиным, одетым по-домашнему для краткой летней прогулки, Петр Григорьевич ощутил, что одним поклоном не отделается. Горемыкин также, по своей манере, как бы не видя Заичневского и не обращая внимания на него, сказал, заложив руки за спину:
— Не желал бы я видеть в вас другого Бакунина.
Сравнение с Бакуниным сопровождало Петра Григорьевича всю жизнь. И всю жизнь сравнение это не льстило ему.
— Мон женераль, — учтиво улыбнулся Петр Григорьевич, — я со своей стороны тешу себя надеждой видеть в вашем превосходительстве другого Корсакова.
Дерзость сказана была по-французски, отчего прозвучала вовсе и не дерзостью. Генерал почитал французский язык за то, что болтай на нем что хочешь — для того и создан. Но по той же самой причине он не любил этого языка в употреблении между начальниками и подчиненными, а тем более между генерал-губернатором и политическим ссыльным. Язык сей как бы уравнивал говоривших, выявляя не чин, а ум, тем более умничанье, что само по себе уже было — непорядок. Посему Александр Дмитриевич крякнул по-русски и по-русски же сказал, вразумительно посмотрев на красавца снизу вверх из-под бровей:
— Помнится, как раз при Михаиле Семеновиче Корсакове вы изволили проследовать в Витим?
— Михаил Семенович, — не отводя глаз, улыбнулся Заичневский, — способствовал моему возвращению в Россию…
— В Западную Россию! — вдруг вскрикнул Горемыкин, — в Западную Россию-с! Россия, милсдарь, и здесь! Восточная Россия!
Заичневский вмиг сообразил, что шутки его насчет тайного сибирского патриотизма генерал-губернатора имели основания. Тем более Горемыкин горячо, как бы убеждая самого себя, вдруг заговорил о единстве России, что было даже весьма некстати на прогулке.