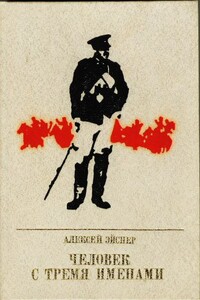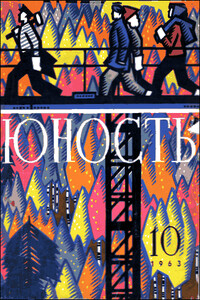Освобождение крестьян, ожидаемое бурно, нетерпеливо, обернулось кровью. Все было не так. Положение оказалось тяжелым, несправедливым, безрадостным. Оскорбленный народ негодовал, противился, угрожал вот-вот взяться за оружие.
Так думали молодые люди, окружавшие Аргиропуло и Заичневского, и пока никто не мешал им так думать. Освобождение русской общественной мысли от ценсурных колодок сделалось их целью. Необходима была правильная собственная типография — чтобы не зависеть от случайных московских литографов.
Тайна затеваемой вольной типографии была не так уж и глубока, переговоры начались, однако перенесены были на осень, поскольку наступили вакации.
Двадцать первого мая Петр Заичневский выехал из Москвы к себе в Орел. Аргиропуло остался в Москве.
Главное, что занимало разъехавшихся студентов, была неудавшаяся крестьянская реформа. Говорили, министр внутренних дел докладывал царю о крестьянских волнениях и было тех волнений, по слухам, кроме Безднинского, множество и что в иных местах взвивался над мужиками красный флаг социализма.
Московский обер-полицмейстер — московскому генерал-губернатору:
«Получено мною сведение, что выехавший на днях отсюда Орловской губернии, Орловского уезда, в имение своего отца помещика Заичневского, студент здешнего университета Петр Григорьев Заичневский намерен распространять мнение в народе, и первее всего в именин своего отца, что вся земля помещиков принадлежит бывшим их крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости».
Лошади скакали бодро (четверка цугом) по накатанному тракту, пассажиры в колымаге разговаривали как старые знакомцы, что случается только в пути — здрасьте, не желаете ли с краю, так вам будет удобнее, прекрасная погода, не правда ли? Никто не знал ничьих имен, обходились «сударем» и «сударыней». Петр Заичневский в красной косоворотке, в брезентовом пыльнике, в высоком картузе похож был на степного помещика. Молодость (редкий пушок вокруг толстоватых губ) подчеркивала, что помещик сей только что обрел наследство, однако приучен к хозяйству сызмальства. Должно быть, ездил в Москву, выбравшись из дальней своей глубины по делам. Сидел он спиною к кучеру рядом с молодым военным, прямым, как аршин (даже подпрыгивал на ухабах, как деревянный).
Старик в седых бакенбардах а ля государь, рядом две дамы — постарше и помоложе, должно быть жена и дочь, спросил Заичневского, прокашлявшись:
— Большим ли имением изволите владеть?.. Пардон, из-во-ли-ли…
В этом по слогам сказанном слове было достаточно язвительности, чтобы уразуметь отношение старика к крестьянской реформе. Заичневский рассмеялся!
— Никаким! Все мужикам отдал!
— Да-с? — помрачнел старик. — То-то я смотрю, на вас красная рубаха…
Девица отвернулась, Заичневский заметил румянец под дорожным капором и скрытую улыбку уголка рта. Он уже привыкал к разговорам отцов взрослых дочерей, невест, и это вызывало в нем самозащитительного веселья более, чем требовали приличия. Военный еще за Серпуховской заставой сказался женатым, старик потерял к нему интерес.
— А вы, сударыня, — спросил девицу Заичневский, — какого мнения об освободительном манифесте?
Девица вспыхнула ярче, не ответила, старик же сказал:
— Покудова особа эта — в родительской воле… И воспитана, знаете ли, в старых порядках…
— Ну да это ведь — как случится!
— Что-с? Как это — случится?
— Да так! Россия становится на новый путь, а ваша дочь достаточно молода, чтоб и на ее долю выпали новшества! Не так ли, сударыня?
Девица наконец повернулась, посмотрела на Заичневского печально, несколько напуганно, но превозмогла себя, краснея болезненно:
— Не знаю, что вы имеете в виду…
Колымага взобралась на бугор, откуда виделся ужо город Подольск, кресты золотились солнцем. Заезжий двор расположился тотчас за бугром, лошади остановились привычно. Можно было прогуляться. Заичневский соскочил на мягкую землю, на чистую майскую травку.
Внизу, в полуверсте, вокруг невысокого строения толпились мужики. Толпы такие теперь были привычны — должно быть, собрались слушать посредников.