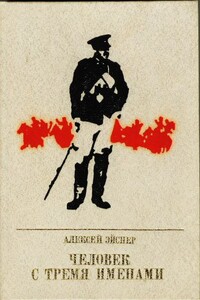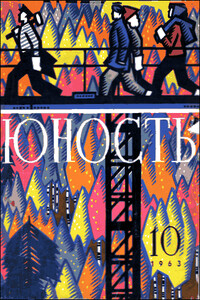Они не понимали друг друга. Старику казалось, что доводы его объяснительны и для дитяти: помещик отпускает своих крепостных, своих работников, свою собственность, как же отпустить их за так, безо всякого удовлетворения? Заичневскому казалось, что его довод неопровержим: земля принадлежит тому, кто ее возделывает, при чем здесь помещики? Он не думал при этом (в голову не шло), что и он — помещик, что отец его в Гостином, возможно, представлял мужикам мировых посредников так же, как здесь князь Оболенский.
Девица (оказалась племянницей этого старого ретрограда) молчала. Но она то вспыхивала румянцем, то загоралась взором, как бы принимая горячее участие в споре, причем, несомненно, на стороне молодого, образованного смельчака в красной рубахе.
Перед самым Орлом военный не сдержался, сказал, будто вызывал на дуэль:
— Милостивый государь, как верный присяге офицер, я считаю своей обязанностию доложить о вашем поведении господину губернскому предводителю, а также его превосходительству генералу Толю, с которым я имею честь быть знаком!
— Доносите! — весело сказал Заичневский.
Военный (по лени, должно быть) не подал рапорта, укатил дальше, кажется, в Харьков. Старик же весьма удивился, что и в Орле ему — по дороге с этим невыносимым юнцом! Юнец — к Депишам, старик с дамами тоже — в Остриковский.
Счастье встречи было велико. Все семейство находилось в Орле, ждали обоих, но то, что Николенька задержался, не уменьшило радости Авдотьи Петровны. Она любила Петрушу, это понимали все, да и можно ли ревновать к меньшому?
Петру Заичневскому казалось, что подольский разговор с мужиками был первым удачным опытом его истинно пропагаторской деятельности. Теперь и речь на паперти в Милючевском переулке не воспринималась неудачею. Он не любил людей, которые ни черта не смыслят в своей же пользе, как им ни толкуй. Мужики же — смыслили (как этот, небольшой, сказал: добудем, барин, волю!), это было так очевидно! Нет, крестьяне, не в пример всей этой буржуази лэтрэ, дельные ребята.
Впрочем, и среди буржуази лэтрэ имеются кроме него, Петра Заичневского, и Грека (он полагал истинными социалистами пока только себя и Аргиропуло) дельные люди. Эта тихоня, дорожная спутница (звали ее Натальей Георгиевной, Наташей), преподала ему урок конспирации. Оказывается, она знакома с Греком, с Иваном Гольцем (знала на память даже его стихи), оказывается, она видела и его, Петра Заичневского, и слушала его речи, но скромности затерявшись среди других барышень.
Ах, эта славная конспирация — неуемная, веселая, смелая! Литографированные листы «Колокола» (те самые, которые тискали в Москве) появились в Орле в присутственных местах, в извозчичьих пролетках, прямо на крылечках! И все это делалось кем-то, не им, потому что он распространял крамольную литературу дельно, среди знакомцев.
— Хоть бы сказали! — пенял он Наталье Георгиевне. Она отвечала, распахнув чистые глаза, голубые, как весенние окна:
— Не знаю, о чем вы говорите…
Нет, поистине женщины просто созданы для конспирации! Они созданы для верной дружбы, исключающей все эти пошлые дурацкие жениховства! И как важно знать, ощущать, что среди банальных говорунов, глупых и неразвитых, находится близкая душа, которая все понимает, как мы, и думает, как мы, и, как мы, смеется над упрямой нашей непонятливостью!
Они являлись порознь и в Собрание, и на частные вечера. Присутствие Наташи (верного друга) придавала Петру Заичневскому веселых сил, бодрило его, задирало, куражило. У него была одна истина, одна вера, одна забота: дразнить помещиков реформой, поносить самое реформу, возвещать наступление нового века — социалистического.
В особняке на Волховской в ожидании ужина (хозяин был хлебосол) обсуждали дерзость новых карбонариев: никогда еще на почтенный, благонравный Орел не обрушивалось такое количество запрещенных листков.
— Я знаю, кто это, — сказал вдруг нестарый помещик в венгерке с брандебурами, — это девицы с Кузнецкого моста. Понятие чести и совести у них весьма о-ри-ги-наль-но…
Петр Заичневский вспыхнул, шагнул к нему:
— Объяснитесь!