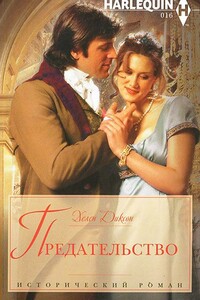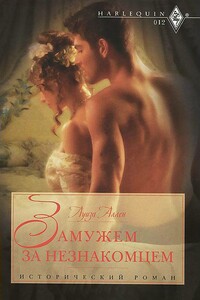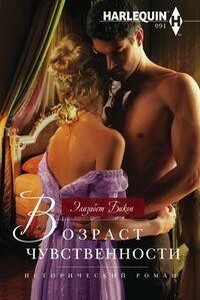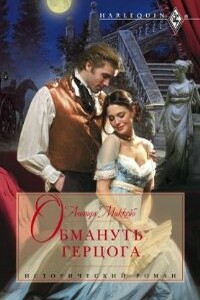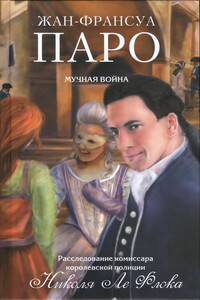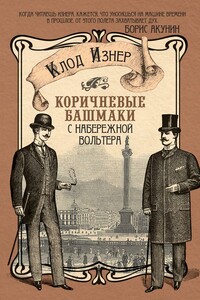— Родителям мисс Лидгейт сообщили?
— Конечно, я сразу послал телеграмму. Они спросили, нужно ли им приехать, но я заверил их, что в этом нет необходимости. Я объяснил, что здесь, в Вене, находятся лучшие специалисты в области лечения нервных расстройств. Не так ли, герр доктор?
Либерман принял этот хитроумный комплимент с натянутой улыбкой. Посмотрев поверх плеча Шеллинга, он показал на мрачный пейзаж на стене.
— Это Фримл, министр?
Шеллинг снова повернулся всем телом.
— Фримл? Нет, это немецкий художник Фраушер. У меня несколько его работ.
Изображая интерес, Либерман встал и при этом украдкой заглянул за воротник рубашки Шеллинга. Он увидел там краешек марлевой повязки.
— А вы коллекционируете картины, доктор Либерман?
— Немного, — ответил Либерман. — В основном малоизвестных сецессионистов.
— В самом деле? — сказал Шеллинг. — Боюсь, не могу сказать, что мне нравится их творчество.
— Это ничего, — скачал Либерман, — их начинают больше ценить со временем. Спасибо, что уделили мне время, министр.
— Как, вы уже уходите? — немного удивленно спросил Шеллинг. Он встал. — Похоже, я не особенно вам помог.
— Нет, ну что вы, — сказал Либерман. — Я многое от вас узнал.
Мужчины обменялись рукопожатиями, и Шеллинг проводил Либермана до двери.
Выйдя из этого дома, Либерман поспешил в больницу. Ему нужно было поговорить со Штефаном Каннером. Каннер и Шеллинг были абсолютно разными людьми, но у них было кое-что общее. Это была мелочь, которая, тем не менее, могла оказаться очень важной. А чтобы определить, насколько важной, Либерману нужна была помощь его друга Каннера в одном эксперименте.
Либерман и Райнхард закончили свой музыкальный вечер почти безупречным исполнением «Любви поэта» Шумана. Когда был подан коньяк в графине, а сигары обрезаны и закурены, оба они почти перестали разговаривать и, как это часто бывает, не отрываясь смотрели на огонь. Веселая мелодия третьей песни этого цикла Шумана все еще звучала в голове Либермана, особенно слова «Я люблю только одну…»
«Я люблю только ее — маленькую, настоящую, уникальную».
Почему эта строчка застряла у него в голове?
По сути, это было описание Клары. По что-то тревожное было в этой настойчивости.
«Я люблю только ее».
Музыка продолжала играть в голове Либермана, с каждым повторением приобретая все больше ироничности. Постепенно звуки призрачного концерта становились тише, вытесняемые другими звуками: потрескиванием дров в камине и возней слуги Эрнста, стиравшего пыль с нотных тетрадей и закрывающего крышку фортепиано.
— Оскар?
Райнхард повернулся и посмотрел на своего друга. Вопреки обыкновению, молодой доктор выглядел смущенным.
— Оскар, можно задать тебе личный вопрос?
— Конечно.
— Интересно… ты когда-нибудь… — Либерман остановился и поморщился. — Я хочу спросить… после того, как вы обручились, были ли вы абсолютно уверены, что поступаете правильно? Что женитесь, я имею в виду.
Выражение лица Райнхарда мгновенно смягчилось.
— Мой дорогой друг, конечно, у меня были сомнения. У всех они бывают.
Либерман выпустил облачко дыма, и плечи его с облегчением расслабились.
— Сколько времени прошло? — продолжал Райнхард. — С тех пор, как ты сделал предложение?
— Около трех недель. Хотя кажется, что гораздо больше.
— Знаешь, сейчас, когда первый восторг прошел, самые счастливые эмоции неизбежно уступают место серьезным размышлениям. В душу вползают сомнения, но так и должно быть. В конце концов, того, кто не обдумал бы как следует такое важное решение, по праву можно назвать дураком, ты согласен?
— Да, — сказал Либерман, — думаю, ты прав.
— Я не могу дать тебе никакого совета, Макс, — продолжал Райнхард, — потому что каждый человек должен сам прокладывать себе дорогу в жизни. Но я могу передать тебе немного своего опыта, который, может быть, пригодится, а может быть и нет. — Усталые глаза инспектора засветились необыкновенным блеском. — Если бы я пошел на поводу у этих сомнений, не знаю, что бы со мной стало! Какое бы жалкое существование я вел! Мужские клубы, поездки в Баден, иногда охота, случайные встречи с какими-нибудь продавщицами… Говорю тебе, Макс, не проходит ни одного дня, чтобы я не признавал себя одним из самых счастливых мужчин на свете. Моя жизнь была бы пуста и безрадостна без моей дорогой Эльзы и бесконечного счастья, которое дарят мне мои прекрасные дочери.