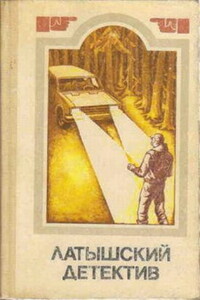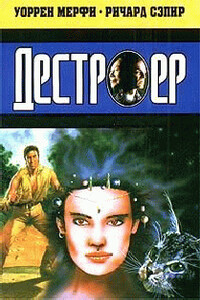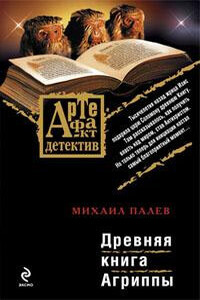— Когда ваша сестра рассказала вам то, что она узнала о прошлом Зара... в каком настроении она была?
Рейнис Сала провел ладонью по лицу, и быстрота этого превращения ошеломила меня — у стола сидел другой человек, будто этим движением ладони он сбросил с лица шутовскую маску.
— Сестра? — повторил он. — В каком настроении? Это вы могли бы сообразить...
— Я соображаю, но хотел бы услышать об этом от вас.
— Она была в таком отчаянии, что... Знаете, следователь, когда в отчаяние впадает бабенка, которая вообще из-за каждого пустяка восклицает «ах» или «ой», хлопается в обморок при виде мышки, — это одно дело. Но она... Моя сдержанная сестра... В ту минуту... Я не был уверен, что она не сойдет с ума... Следователь, что ее ждет?
— Справедливость...
Сала навалился на стол грудью и, не сводя с моей переносицы прищуренных глаз, прошипел:
— Как вы сказали? Повторите!
— Могу повторить: справедливость. Последнее слово всегда принадлежит справедливости, Сала.
Он навалился на стол еще больше, вытянул шею; наклонился так близко, что в лицо мне шибануло водочным перегаром, запахом табака и пота. Пересилив отвращение и не отодвинувшись, я смотрел на него. Сала шептал:
— Вы хоть соображаете, какая она, моя сестра? Никогда еще солнце на этой насквозь прогнившей земле не сияло более чистому, благородному и несчастному созданию, чем она. Вдруг узнать, какому гаду отдана ее жизнь! Вы можете это постичь? Поклониться мы должны ей за такие страдания. А вы тут сидите, философствуете да глазеете на меня, как на... Что это вы на меня так глазеете? По-вашему, это сентиментальность пьяницы, так ведь по-вашему?.. И аминь. А Белла, поймите же вы...
Он выпрямился и больше не смотрел на меня. Пошарив по карманам, достал скомканную пачку сигарет и спички.
— Можно?
Задавая этот вопрос, Сала уже делал вторую затяжку. Сметал со стола крошки табака долго и с преувеличенным старанием. Снова заговорил, не подымая глаз:
— Да, пьяницы сентиментальны, зато трезвенники... тоже хороши... Ладно, забудьте мои вопли и пьяный пафос! Подобный спектакль человек может разрешить себе только наедине с собой, а вываливать это перед другими... На фига́?
— Бросьте вы это, Сала!
— О, какое великодушие, снисходительность, даже приветливость в голосе! И к кому-у? Ко мне, к подонку, моральному уроду, шуту... Боже, какому шуту!
— А вам понравилось быть шутом, Сала. Удобная позиция. Вам не кажется, что даже слишком удобная?
— Не понимаю. Хоть убейте, на сей раз не могу постичь глубину ваших мыслей.
— Понимаете вы, Сала, великолепно понимаете! Что может быть удобнее: меня обидели, ну так стоит ли барахтаться, опущусь-ка на дно. Опуститься и пойти на дно ведь отнюдь не трудно?
— Вы провоцируете меня на трудное? На мужество, так? Трогательно! Неожиданный поворот. Уж не решили ли вы заняться филантропией, следователь, а? Повернуть мой угрюмый взгляд к «светлым сторонам жизни»? Этого вам хотелось бы, хе?
— Да. Почему бы и нет?
— Не будет ничего нового. Все уже испробовано... Скука. Эх вы, ловцы душ, милосердные самаритяне! Игра со мной не стоит свеч. В конце концов, могу шепнуть вам на ухо: вы угадали, мне хорошо в шкуре шута. Духовно и телесно... Так на кой же мне черт в угоду вам и вам подобным выкручивать да выворачивать по-новому свои суставы и свою душу?! Взять да как раз без пяти двенадцать отказаться от своих последних утех? Да, следователь, вы угадали, есть своя радость, свое удобство в мировосприятии пьянчужки, мелкого этакого нигилистика. Мелкого, учтите, куда уж мне до нигилистов с размахом, до Геростратов... Из меня такой уж не получится... Только не перебивайте!
— Я же слушаю.
— Спасибо и на этом. Ценю. Значит, крепко задумали сделать из меня голубка? Из дерьма вытащить, отвратить от греха? Не на того напали. Неужели у вас не найдется материала посвежее, поподатливее? Юнцов, подпорченных только слегка? Вот и фабрикуйте из них голубков... по своему эталону...
— Я все-таки не понимаю, чем навлек на себя вашу злобу и эти словоизвержения.
— Не понимаете? А я понял ваше затаенное желание протянуть мне ручку ангела-хранителя. Хотя бы кончики пальцев. И я хочу довести до вашего сознания раз навсегда: меня вы оставьте в покое! Меня вам не превратить в умиротворенного, раскаянного, из моих уст не услышать «аллилуйя»!