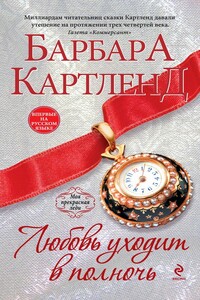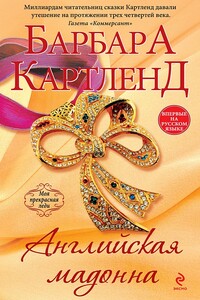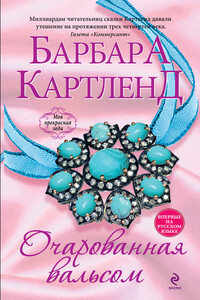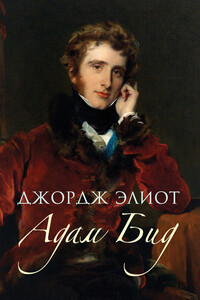— Я их заработаю!
— Выпустишь еще одну книжечку стихов «наблюдателя»? — почти незаметно улыбнулся маркиз.
— Так вы догадались? — испуганно воскликнула Орелия.
— Глупенькая моя! Даже если ты, побывав у Розэма, обрушилась бы в гневе на меня не с теми же словами, то тебя вполне выдало бы выражение лица, когда Генри читал твои стихи.
— И вас… шокировало то, что я их пишу? — с тревогой спросила Орелия.
— Шокировало? Нет, напротив! Я горжусь тобой, очень горжусь, и в то же время не могу понять, как тебе удалось так много узнать о страданиях бедняков?
— А вам Кэролайн не рассказывала об одной из книг, над которой работал и которую не закончил ее отец?
— Я и понятия не имел, что граф был еще и писателем!
— Он сначала не был писателем, но он был ученым, исследователем, и заинтересовался ужасными условиями труда в шахтах и на фабриках. И стал об этом писать. А потом он познакомился с Уильямом Коббетом[3].
— Ты имеешь в виду того реформатора, который побывал в тюрьме за выступления против порки бунтовщиков?
— Да, я имею в виду его, и когда мы с дядей однажды приехали в Лондон, то очень много времени проводили в его обществе. Это он рассказал нам о публичных домах и показал один из них в Сент-Джайлсе. Конечно, внутрь я не входила, но ждала дядю и Коббета в карете и сама видела этих несчастных детей, которые туда шли и выходили оттуда.
— Коббет возил тебя в Сент-Джайлс! — воскликнул маркиз. — Да он с ума спятил!
— Наверное, меня он едва ли вообще заметил — так старался привлечь дядю в число своих сторонников! Он говорил ему о том, что все слои общества в Лондоне заражены пороком! Причем с самых малых лет — дети растут на улице и все видят и начинают подражать взрослым и воспринимать этот образ жизни. Если в таверне аристократы и члены парламента до самого утра заняты недостойными развлечениями, то детской распущенности не избежать. Что же тут удивляться, что во многих церквях Ист-Энда священники исполняют брачный обряд для тринадцати-четырнадцатилетних подростков, а в иных случаях — и их без счета — такие подростки обзаводятся потомством и вовсе без церковных обрядов. Всему этому надо как-то противостоять! Мы в Мордене получали письма и от Коббета, и от мистера Генри Грея Беннетта, и от многих других радикалов, реформаторов и несогласных с действиями правительства по всем этим проблемам, и все они очень помогали дяде собирать материалы для книги, над которой он уже работал и которую… — Орелия вздохнула, — так и не успел закончить. И я подумала, а вдруг я смогу помочь делу, которое он так отстаивал? Я доработала по его материалам эту книгу помимо исторической, которую тоже довела до конца, и написала несколько стихотворений… Надеюсь, они затронут всех, кто к этому небезразличен.
— И ты была права. Твои стихи уже произвели смятение в сознании многих и вызвали отклики и в палате общин, и в палате лордов!
— Неужели? — встрепенулась Орелия.
— Но ты должна понять, что это не просто стихи, а политические стихи. И это не так безопасно, как тебе кажется. Никто и никогда не должен узнать, кто их автор, — сурово предостерег маркиз. — Однако, кроме этой прямой опасности, что ты осмелилась обвинить власти в несправедливой политике по отношению к низам общества и в других неправедных действиях, есть еще и другая.
— Боже мой, это еще какая?
— Тебя подвергнут остракизму, любимая, люди станут ужасаться, что ты знаешь так много того, чего не полагается знать женщине!
— Да, понимаю. Но могу ли я по-прежнему заниматься творческим трудом? — спросила она, не сознавая, что самим вопросом этим дает маркизу право руководить ее жизнью и занятиями, то есть отныне она сможет действовать только с его согласия и в том направлении, какое он сочтет для нее подходящим.
— Если это будет касаться истории, можно. И если ты не свяжешь себя обязательствами с определенными кругами и не позволишь им вовлечь себя в неблаговидные поступки, — довольно размыто отвечал ей маркиз. — Ведь ты не только прекрасна, но так неиспорченна и неопытна! Было бы просто кощунством позволить тебе даже прикоснуться ко всему порочному и преступному, — прояснил он свою мысль.