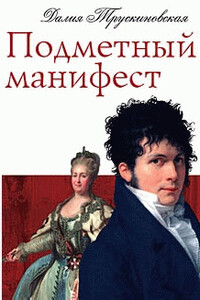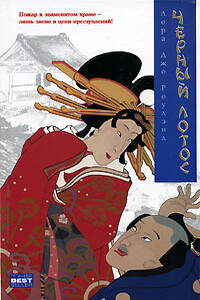Певцы пели именно так, как положено в гостиных, не форсируя голос, не впадая в чрезмерную патетику. Маликульмульк читал по бумажке, добавляя обязательные комплименты: «наша очаровательная гостья… известный всей Европе тенор… блистали при дворе покойного французского короля…» Аплодисменты были беззвучные — это не балаган на эспланаде, это прием в Рижском замке.
Наконец дошло и до дивного дитяти. Никколо вышел без всякого стеснения со скрипкой под мышкой и приготовился играть, но начал не сразу — собирался с силами, с духом, с памятью, наверно. Маликульмулька поразили невероятно растянутые пальцы мальчика, лежащие на грифе скрипки, и как-то диковинно вывернутый вправо локоть под скрипкой. Самому ему такое и в голову бы не пришло — но он сообразил, для чего это потребно: чтобы легко и непринужденно переходить от низких к высоким позициям. Стоял Никколо тоже своеобразно — не так, как все знакомые Маликульмульку скрипачи, слегка расставив ноги и опираясь одинаково на обе. Нет, мальчик и тут изобрел свое — он опирался на левую ногу, правая была выставлена вперед и даже чуть присогнута.
Старик Манчини стоял в полудюжине шагов от него, рядом с квартетом, и держал кружку с питьем — на всякий случай.
Никколо начал со знаменитых скрипичных сонат Арканджело Корелли, знакомых Маликульмульку — и одновременно незнакомых, потому что мальчик усложнил их всякими мелкими, но очень заметными кундштюками — это были шалости виртуоза, все сверкающие двойные ноты, рулады, стаккато, пиццикато левой рукой. Затем последовали не менее известные дилетантам этюды профессора Парижской консерватории Родольфа Крейцера. Сам скрипач-виртуоз, он собрал в них множество трудных пассажей. Но Крейцер принадлежал к французской классической скрипичной школе, а Никколо Манчини — нет, его исполнение было неожиданно страстным, взволнованным, как будто кундштюков, требующих внимания, в этой музыке не было вовсе. Никколо не блистал техникой — он собственной ловкости, пожалуй, сам не замечал, впав в какой-то почти божественный экстаз.
Доиграв последний этюд, мальчик поклонился. Так и было задумано — чтобы дать ему отдохнуть, по плану полагалось несколько вокальных номеров. Но княгиня расстроила план.
— Изумительно! — сказала она по-французски. — А что, с листа наш виртуоз так же ловко разбирает?
Маликульмульк приготовился переводить на немецкий, но старик Манчини понял.
— О, да, да! Я прошу дать любые ноты! Мой Никколо справится, я уверен!
— Иван Андреич, тебе ведь присылали из столицы новинки, помнишь? — сказала княгиня уже по-русски. — Если ты их к себе в берлогу не уволок, то они в гостиной. Что там такое было?
— Там дуэт для пианофорте и скрипки госпожи Скиатти и ее же соната для пианофорте. Сонату я отдал Екатерине Николаевне, — и Маликульмульк для старого Манчини перешел на немецкий. — У нас есть ноты дочери славного скрипача Скиатти, Екатерины Скиатти-Мейер. Она отменная сочинительница. Не любопытно ли вам и вашему сыну?
— О, да, да, любопытно! Велите принести! Вы убедитесь!
По безмолвному приказу Варвары Васильевны стоявшая рядом приживалка Наталья Борисовна пошла за нотами и скоро принесла кипу в полтора фунта весом.
Маликульмульк сам собирался разучить скрипичную партию, чтобы исполнить дуэт с Екатериной Николаевной. Он понимал, что никакого блеска от их совместной игры ждать не приходится — вот если бы с самой Скиатти! Та настолько выделялась среди музицирующих дам, что была приглашена преподавать в Смольном институте.
Катерина Николаевна быстро нашла ноты.
— Ты, сударыня, уже начала разучивать? — спросила княгиня.
— Я свою партию прошла, ваше сиятельство.
— Аккомпанировать сможешь?
— Да, ваше сиятельство… — Екатерина Николаевна немного растерялась.
— Я буду переворачивать вам ноты, — сказал стоявший рядом с ней полковник Брискорн. Сказал он это тем особенным голосом, который сразу показывает любопытным: эти двое не только насчет нот сговорятся. Екатерина Николаевна улыбнулась полковнику, но как-то испуганно — казалось, внимание такого великолепного кавалера ее смущало и даже тяготило.