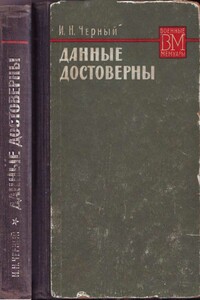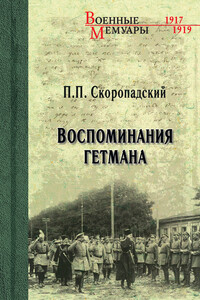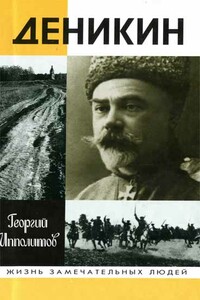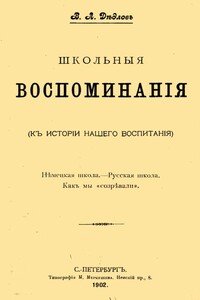У моих отца с матерью было двое детей: я и сестра. Дед мой занимался ловом рыбы. А в молодости, рассказывали, ходил строить Питер. Каждую зиму, восемнадцать лет подряд, он работал в городе пильщиком — резал из бревен доски. Осенью вместе со своим подручным отправлялся в столицу. Весной дед подрабатывал на другом деле: сплавлял по Двине из Вологды в Архангельск барки с хлебом.
Скитаясь по городам, дед выучился читать и писать. А вот отец мой, Иван Титович Шебунин, не знал ни одной буквы, даже не умел расписаться. Зато его считали знаменитым специалистом по дегтекурению. Отец ездил по всей округе и помогал мужикам строить смолокурни.
В двенадцать лет я закончил земское начальное училище и стал помогать отцу. Занимались мы в основном дегтекурением. Все лето жили в лесу, заготавливали смолье и березовую кору. По первому снегу вывозили смолье вместе с берестой к дегтекуренному заводу. Строили мы его сами, из глины.
Дегтекурение — довольно сложное и тонкое ремесло. Не каждый мужик мог приготовить деготь высокого качества. Это было своего рода искусство: немного недоварил или переварил — и деготь уже не тот. Но нелегкий этот труд приносил хозяевам хороший заработок.
В четырнадцать-пятнадцать лет я уже хорошо разбирался в процессе дегтеварения. Самое плохое для меня, мальчишки, в этой работе было не физическое переутомление, хотя уставал изрядно, а то, что выгонка дегтя начисто перечеркивала воскресные дни и праздники. Перерыв в работе означал остывание печей, и весь процесс приходилось начинать сызнова.
Кроме своеобразных экономических условий в наших местах издревле сохранялся и особый нравственно-бытовой уклад.
Никаких чиновников в деревнях не было, судебных процессов у нас также не устраивалось. Все дела решались на деревенских сходах. А охрана порядка возлагалась на сотского, обязанности которого поочередно исполняли все мужики. Иной власти в деревне не было.
После избрания Совета крестьянских и солдатских депутатов мы, исполкомовцы, облеченные народным доверием и властью, начали устанавливать порядки в соответствии с революционными законами. В Афанасьевской волости решено было создать артели, занимающиеся теми ремеслами или промыслами, что давно сложились в здешних селах и деревнях. Сами крестьяне избирали правления артелей: на должность председателей выдвигали своих же мужиков, большей частью грамотных парней-солдат, хлебнувших лиха на фронте и имевших некоторый политический кругозор.
На купцов и богатеев волисполком наложил «контрибуцию», как называли мы подоходный налог. Кто был побогаче, тот и платил больше — мужики досконально знали, у кого из своих «буржуев» сколько и какого награбленного добра. Тех, кто отказывался платить налог, отправляли в лес заготавливать дрова для пароходов к летней навигации по Северной Двине.
Купцы — народ хитрый. Иные так ловко прятали деньги, что нужно было хорошенько поискать, чтобы найти их.
Так было с нашим самым богатым купцом Синцовым. После конфискации у него пароходов и каменного дома Синцов жил тихо, смирно, мы его и не трогали больше.
Но прибежала в Совет прислуга Синцовых и сообщила, что старик хозяин что-то прячет под полом в избе.
По распоряжению председателя исполкома взял я двоих активистов и пошел к Синцовым. Сделав обыск, мы нашли большую жестяную банку, а в ней с полпуда старых золотых монет. Мы их тут же пересчитали, выдали хозяину расписку и отправили потом это золото с вооруженной охраной в Архангельский банк.
Все шло у нас вроде как полагается, по закону: защищали бедных, заставляли работать захребетников-богатеев. Те, конечно, были обозлены, пытались жаловаться на исполкомовцев, писали бумаги в губернский Совет и даже в Петроград.
И вот однажды произошел у нас смешной казус.
В конце января или начале февраля восемнадцатого года в наши места из Москвы прибыл представитель центра, чтобы ознакомиться с работой органов Советской власти в Архангельской губернии. Забегу вперед, скажу, что представителем этим оказалась Р. С. Самойлова (Землячка) и что разговор с ней повлиял на мою дальнейшую судьбу.