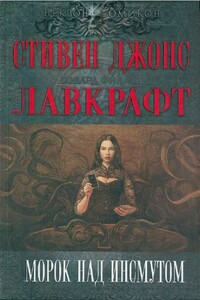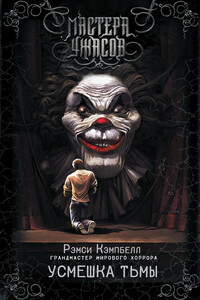– И его деяния тоже, – добавил Пиджин. – Все эти дети, миленькие маленькие девочки, исцеленные его добродетелью. Он был великим человеком.
– Думаю, им не особо нравилось лечение, – заметила Тереза. – Они много плакали.
– Наверное, от холода. Они были голенькими, а его руки липкими.
– И, возможно, его пальцам недоставало ловкости. Но он был великим человеком, твои слова. Ты закончил с бренди?
Пиджин протянул бутылку – уже полупустую – подруге.
– Я видел, что его пальцы хорошо так соскальзывали, – продолжил попугаечеловек. – Обычно…
– Обычно?
– Ну, если подумать, все время…
– Все время?
– Он был великим человеком.
– Все время.
– …в промежность.
С минуту они сидели в молчании, обдумывая это.
– Знаешь что? – наконец сказала Тереза.
– Что?
– Думаю, наш дядюшка Раймонд был грязным извращенцем.
Еще одна долгая пауза. Пиджин глядел сквозь ветви в беззвездное небо.
– Что будет, если они это выяснят?
– Зависит от того, веришь ты в божественное прощение или нет, – Тереза снова отхлебнула бренди. – Лично я думаю, что мы нашего Раймонда больше не увидим.
Святой так и не понял, что его выдало: неподобающий взгляд на херувима или то, как он иногда спотыкался на слове «дитя». Раймонд знал одно: секунду назад он пребывал в компании пресветлых душ, каждый шаг которых зажигает звезды, а теперь их чистые лица смотрели на него с ненавистью, и воздух, прежде наполнявший грудь восторгом, превратился в березовые розги, стегавшие его в кровь.
Он молил о милосердии, снова и снова. Его страсти победили, Раймонд признавал это, но он пытался бороться с ними изо всех сил. Если, по воле случая, ему и довелось поддаться постыдной лихорадке, разве нельзя это простить? Ведь согласно божьему плану он принес больше добра, чем зла.
Розги все так же стегали его, раскрашивая кожу кровавыми татуировками. Рыдая, он упал на колени.
– Отпустите меня, наконец, – воззвал он к Небесному Воинству. – Я отрекаюсь от святости здесь и сейчас. Не наказывайте больше, просто отправьте меня домой.
Дождь кончился в 8.45, а к девяти, когда Софус Демдарита вернула Раймонда в его убогую обитель, тучи разошлись. Луна омыла комнату, в которой он исцелил полсотни малышек, а потом полсотни раз рыдал от стыда. В лучах заблестели лужи на ковре – там, где дождь хлестал сквозь дыру в крыше. Стали видны пустой деревянный ящичек – жилище черепахи и кучка перьев под насестом Пиджина.
– Сука! – сказал он ангелу. – Что ты с ними сделала?
– Ничего, – ответила Софус. Она уже подозревала самое худшее. – Помолчи, не мешай мне.
Опасаясь новых побоев, Раймонд замер. Ангел нахмурилась и шепотом велела пустоте явить призраков прошлого. Раймонд увидел себя, оторвавшегося от сонетов, когда по комнате разлился сироп небесного света и благовеста. Он заметил, как испуганный попугай вспорхнул со своей жердочки, как распахнулась дверь, внутрь ввалились разгневанные соседи и попятились, охваченные благоговением и ужасом.
Воспоминания заплясали, словно в калейдоскопе, – Софус не терпелось разгадать эту тайну. Эфирные тела ангела и человека вознеслись сквозь дыру в крыше, и Раймонд посмотрел на призванные заклятием образы Пиджина и Терезы.
– Господи, – сказал он. – Что с ними такое?
Попугай трясся как одержимый – перья сыпались на пол, словно плоть под ними разбухала и кипела. Панцирь черепахи треснул, когда она стала слишком большой – у них на глазах анатомия рептилии становилась все более человеческой.
– Что я натворила? – прошептала Софус. – Боже правый, что я натворила?
Она повернулась к прежде-святому.
– Это ты виноват, – сказала она. – Отвлек меня своими слезами радости. А теперь мне предстоит то, чего я обещала отцу никогда не делать.
– Что именно?
– Я должна забрать жизнь, – ответила Софус, пристально глядя на мелькающие образы. Попугай и черепаха натянули одежду и пошли к двери. Ангел последовала за ними.
– Даже не одну, – печально сказала она. – Две. Словно этой ошибки и не было.
Улицы северного Лондона славятся не чудесами. Они знали убийство, насилие и мятеж. Но откровение? Это для Хай-Холборн и Ламбета. Правда, существо с телом чау-чау и головой Уинстона Черчилля видели в Финсбери-Парк, но сей сомнительный случай был самым серьезным проявлением сверхъестественного с пятидесятых.