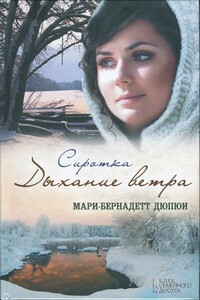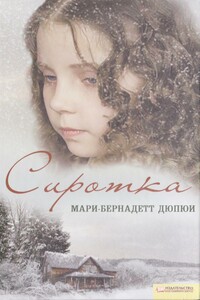— Ты вовсе не плохой, — заверила она. — Я бы никогда не полюбила мужчину с нечистым сердцем, но я любила тебя и ненавидела с одинаковой силой. Жослин, ты можешь спасти Киону, потому что ты богатый и белый. Если ты потребуешь вернуть ее через суд, осмелившись сказать, что она твоя дочь, ее освободят. Киона, моя малышка Киона, свет моей жизни! Ее янтарные глазки, медовая кожа, волосы цвета солнца… Как мне всего этого не хватает! Жослин? Ты здесь? Я тебя больше не вижу, а ведь ты держишь меня за руку. Умоляю тебя, зажги керосиновую лампу, я хочу тебя видеть! И сожми крепче мою руку, ради Бога! Эта темнота меня пугает, она хочет меня забрать!
Огонь в хижине продолжал гореть. Жослин понял, что Тала постепенно погружается в небытие. Его горло сжалось от сдавленного рыдания.
— Тала! Не бойся, я здесь.
Он лег рядом с ней и обнял ее. Красавица индианка, казалось, обрела в нем убежище, продолжая страдать, но получив огромное утешение.
— Волки воют на холме, — с трудом произнесла она. — Волчица — это по мою душу[23]. Они чувствуют, что здесь бродит смерть. Мне плохо, так плохо здесь, в сердце. Обними меня крепче, прошу тебя.
В эту секунду в жалкую хижину вошел Шоган. Он все слышал и наконец признал благие намерения Жослина. Свою тетку он жалел. Она любила этого мужчину долгие годы, ничего не требуя от него. Пряча свое волнение под маской безразличия, индеец опустился на колени с торжественно-серьезным выражением лица. Гортанным голосом он затянул старинную грустную песню народа инну.
— Тала, — тихо сказал Жослин, — Тала, позови нашу малышку Киону, чтобы попрощаться с ней, чтобы увидеть ее в последний раз. Она может использовать свой дар перемещения.
— Нет, нет, — отказалась Тала. — Моя девочка потеряла свои способности, и это к лучшему. Поезжай, прошу тебя, отправляйся на ее поиски.
Эта была последняя мольба прекрасной индианки. Жослин ощутил, как расслабились ее мышцы, как она слабо вздрогнула и застонала. Она тяжело задышала, снова закашлялась, затем началась агония. Ее хрупкое тело отказывалось уступать сотрясающему его предсмертному хрипу.
— Тала, Тала… — повторял Жослин, поглаживая лоб бывшей возлюбленной.
Внезапно он поцеловал ее в губы, преисполнившись сострадания к этой неукротимой женщине, близкий конец которой его пугал.
— Иди с миром, Тала, — пробормотал он, немного отстранившись, чтобы посмотреть на нее. — Я буду хорошим отцом для Кионы. Знай: я любил тебя недостаточно долго, но, когда мы с тобой жили внутри круга из белых камней, под луной, я не обманывал тебя, прекрасная дикая волчица.
Слышала ли она его? Ее лицо вдруг преобразила блаженная улыбка. Она так и умерла, словно заснула с надеждой на прекрасное завтра.
— Все кончено: ее душа улетела, — резко сказал Шоган. — Ее убили законы белых. Если бы Киону не увезли, Тала не получила бы эту травму. Я ухожу. Мне невыносимо тебя видеть, Жослин Шарден, поскольку все это в конечном счете случилось по твоей вине.
Гордый индеец поднялся. Он взял рюкзак из оленьей шкуры и достал ружье, спрятанное под тростниковой циновкой.
— Подожди! — воскликнул Жослин, не решавшийся двигаться, поскольку по-прежнему прижимал к себе Талу. — Мы должны похоронить ее достойно. Ты ведь знаешь молитвы вашего народа?
— Вот уже долгие годы их пытаются заглушить, — презрительно ответил Шоган. — Наши дети скоро забудут наши обычаи, наши легенды, радость свободной жизни в лесах… Я не стану тебе помогать. Она мечтала стать твоей женой, вот и хорони ее сам.
С этими словами он вышел из хижины и растворился в ночи.
— Вернись! — закричал Жослин. — Мне даже нечем вырыть могилу! Шоган! Вернись!
Вскоре ему стало стыдно за свои крики, и он замолчал, считая недостойным повышать голос в присутствии покойной. С огромной осторожностью он положил неподвижное тело Талы на ее убогое ложе.
— Бедная женщина!
Но, вглядевшись в ее лицо, он упрекнул себя за этот порыв жалости. Покойная приобрела какую-то странную, возвышенную красоту, а нежная улыбка, застывшая на устах, сделала ее моложе; черты ее лица выражали невероятное, чарующее достоинство и безмятежность.