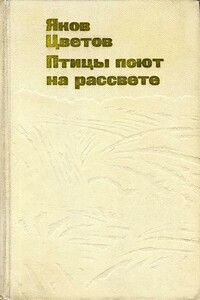— Разрешите, товарищ майор?
— Да?
— А если пропустить танки на мост и взорвать его вместе с машинами? выжидательно посмотрел Андрей на комбата.
— Никакого лихачества! — повысил голос комбат. Он сбился со своего спокойного тона, даже рассердился. — Оригинальная мысль, видите ли! А выскочат танки на мост и не взорвешь почему-либо в ту же секунду, тогда что? Танки следом за нами, а? Учти, танки и близко не должны подойти к переправе.
— Слушаюсь, товарищ майор.
— Возьми маршрут. — Комбат опять устремил глаза в карту. — Отходи вот в этом направлении, — прочертил линию. Линия тянулась от голубой полоски реки через зеленое пятно леса с песочного цвета проредями полян, с синеватыми штрихами болот и обрывалась у коричневого кружка. — Видишь? продолжал он. — Все время вверх и правее. Запомни вот эту высотку, держал он карандаш на коричневом кружке. — Высота сто восемьдесят три.
— Высота сто восемьдесят три. Понял, товарищ майор. — Андрей вглядывался в эту точку на своей карте, представляя себе дорогу и подступы к ней. Он наклонил голову, подбородок уткнулся в грудь, он услышал кислый и сильный запах теплого пота, пропитавшего гимнастерку. — Понял, повторил.
Комбат поймал себя на том, что не спускает с Андрея глаз.
И в них глубокая, невыраженная боль, видел Андрей, и почувствовал всю силу своей привязанности к комбату.
Комбат хрипло закашлялся, кровь прилила к лицу, и лицо потеряло на минуту мертвенный цвет. В складках лба собрался пот, скатывался и набегал на глаза. Стекла очков сверкнули, будто маленькие солнца. Он слепо прижмурился.
— Рота у тебя боевая. — Хоть еще что сказать!
— Но у меня нет роты, товарищ майор, — вырвалось у Андрея. — Какая ж рота…
— А все равно — рота. У меня тоже — все равно батальон.
Андрей уже свыкся с тем, что сказал комбат. Но произнес:
— Рота давно не получала пополнения. Вам это известно.
— И что? Просишь подкрепления?
— Так точно, товарищ майор. Люди выдохлись. Боюсь, что…
— Считай до сорока, — оборвал комбат Андрея, — считай до сорока и перестанешь бояться. И совет тебе или приказание, как хочешь: «боюсь» единственный глагол, который надо выбросить за ненадобностью на войне. Остальные глаголы, даже бранные, можешь оставить. Ты так привыкнешь обходиться без него, что и после войны его не вспомнишь.
— Понял, товарищ майор.
— Передам тебе пулеметы. Два пулемета. С лодками вот еще штыков двенадцать получишь, я про тех, что лодки причалят к переправе. И еще. К исходу дня переправлю тебе часть своего хозяйства: телефонные аппараты, провод. Для сообщения со взводами. Меньше тебе понадобится связных. Как-никак, несколько штыков добавится. — Комбат сочувственно развел руками: — И все. — Потом, почти жалобно и виновато: — Пойми, лейтенант, с дорогой бы душой, ничего у меня больше нет. Только раненые и обозы. Обе роты, которые отвожу, ну какие это роты?.. А с ними мне оборону держать на новом рубеже. Пойми, лейтенант, — с тяжелой тоской в голосе произнес. Говорил человек, которому горько и трудно. — Я-то вхожу в твое положение. А война не входит. Ни в твое, ни в мое. Рота твоя, какая ни есть, крепкая, и немцы повозятся с тобой. Это даст полку возможность оторваться от противника, а пока немцы наведут понтонную переправу, отойдем на заранее подготовленные позиции. — Он умолк, и пауза была томительной, гнетущей. Понял, старик?
Когда комбат переходил на доверительный тон, хотел подбодрить или что-нибудь внушить, сказать ласковое, он обращался к подчиненному по-доброму: «старик». Он был человеком душевным, уверен Андрей. В батальоне знали, что семья комбата не успела эвакуироваться и погибла. Сам он ничего об этом не говорил. Андрею подумалось сейчас о горе комбата. Может быть, затем подумалось, чтоб вызвать в себе сочувствие к нему и тем смягчить в своем сознании жестокость задачи, которую поставил перед ним комбат. Андрей знал, на войне все жестоко. Он привык ко всему, к риску, опасностям, потерям, научился долгому солдатскому терпению и превозмогать страх научился, даже в обстоятельствах, когда все живое содрогалось в вечной и необоримой потребности оберечь себя от гибели. Он машинально провел ладонью по жесткой высокой траве, и меж растопыренных пальцев просунулись зеленые гребешки.