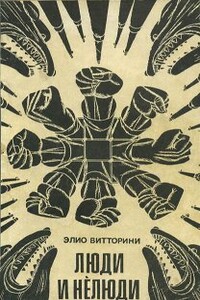— Попробуем, — ответил он. Я протянул сигарету: — Вот!
Но сигарета осталась у меня в руке. Я окликнул его:
— Где вы? — Я здесь, — сказал солдат.
Я встал, сделал шаг вперед, потом еще шаг, держа сигарету, которая так и оставалась у меня в руке.
— Короче, хотите или нет? — крикнул я.
— Хочу, хочу, — ответил солдат.
Я крикнул: — Тогда держите! — Солдат не ответил.
— Держите! Где вы? — кричал я.
Солдат больше не отвечал мне. А я все кричал, я пустился бегом вон из долины, я оказался опять на площадке материнского дома — и увидел, что кладбище со всеми его огнями глубоко подо мной.
Я проспал весь остаток этой ночи и забыл все, но когда проснулся, день еще не наступил.
Серый пепел окутывал Сицилию во льду гор, солнце еще не вставало и как будто не собиралось вставать. Была ночь без ночного покоя, без сна; по воздуху летели вороны, с крыш, из садов время от времени доносились выстрелы.
— Что это? — спросил я.
— Четверг, — ответила мать.
Она была спокойная, снова набросила на плечи одеяло, обула мужские башмаки; но настроение у нее было неразговорчивое.
— Сегодня я уезжаю, — сказал я ей.
Мать пожала плечами, на голове у нее был тот же пепел, что окутывал Сицилию.
— Что это там? — крикнул я. Поднявшись, я вышел на площадку, и мать медленно двинулась следом, как будто надзирая за мной.
Бух! — ударило ружье.
— В кого это стреляют? — спросил я.
Мать остановилась в дверях и смотрела вверх, где летали вороны.
— В них? — спросил я. — Да, в них, — ответила мать.
Снова раздался ружейный выстрел, разорвав пепельный воздух, вороны закаркали, неуязвимые.
— Смеются! — заметил я.
— Что, с тебя еще хмель не сошел? — сказала мать.
Я посмотрел на нее; она стояла рядом и, повторяю, как будто бы надзирала за мною.
— А я был пьян? — спросил я.
— Что, даже не помнишь? — сказала мать. — Пришел точь-в-точь как твой отец, когда бывал в хмелю. Мрачный. И бросился на мою кровать, заставил меня спать на диване.
Снова раздался ружейный выстрел.
— Не понимаю, что с вами происходит, — продолжала мать. — Твой дед, когда выпьет, бывало, поет и шутит.
Из какого-то сада послышался четвертый выстрел, за ним — пятый, но вороны летали такие же неуязвимые в пепельном небе, не меняя пути полета, и каркали, насмехаясь.
— Зачем эти вороны? — воскликнул я.
Мать стала смотреть внимательней, словно ожидала, что одна из птиц упадет.
— Они вправду по ним стреляют? — спросил я.
И шестой, и седьмой стрелок также промазали, и мать разозлилась.
— Все вхолостую, — сказала она. — Им не попасть.
Она вошла в дом и выбежала с двустволкой, начала и сама стрелять: бух, бух!
Но ничто не изменило недостижимого полета воронов.
— Смеются, — заметил я.
Бух, бух, бух! — был ответ матери.
И тут от подножья лестницы прозвучал голос толстой женщины, она принесла матери весть, прокричала между выстрелами и карканьем воронов: — Счастливая мать!
Не произнеся ни слова, мать пошла в кухню и уселась там.
Жаровня посредине уже пылала, мать медленными движениями взяла в руки каминные щипцы, помахала ими в воздухе, потом сунула их в золу и медленно переворошила жар, потом встала и подошла к печке, и я решил, что она ничего не поняла.
— Ты поешь со мною перед отъездом? — спросила она.
— Как хочешь, — сказал я. — Как хочешь.
Я решил, что она ничего не поняла, и был даже расположен что-нибудь сделать для нее, хотя мое путешествие в Сицилию было окончено. Милая старая женщина, счастливая мать! Она спросила, хватит ли мне, как вчера, одной селедки или я хочу еще цикория. Спросила, не выпью ли я покуда чашку кофе, и стала готовить его. Я наблюдал, как она хлопочет с кофейником у печки, видел, что она отгораживается от меня своими хлопотами, как отгораживается всякая женщина, и содрогнулся ее одиночеству, и моему, и одиночеству отца, и одиночеству брата, погибшего на войне.
— В котором часу ты уезжаешь? — спросила она.
Сицилия стала неподвижна, я страдал от этого и сказал, что хотел бы успеть на сегодняшний вечерний поезд из Сиракуз. Она молола кофе, высчитывала за этим делом поезда и автобусы. Потом сказала:
— Надеюсь, хоть ты не пойдешь в солдаты.
Тут я осознал, что она все поняла.