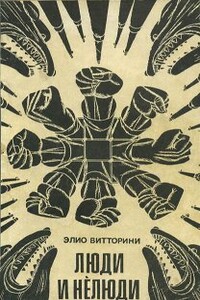Улица, открытая в сторону долины, была залита солнцем, и точильщик со своей тележкой поблескивал во многих местах, хотя сам казался черным — до того были ослеплены светом мои глаза.
— Точить ножи-ножницы! — кричал он в окна дома. Его голос звучал резко, бился о стекла и о камень, как птица, и я заметил, что и сам он вроде дикой птицы, на голове у него один из тех уборов, какие попадаются в полях у пугал. — Есть что поточить?
Казалось, он обращается ко мне, и я встал со своей стенки и пошел через улицу на его голос.
— Я вам говорю, приезжий! — крикнул он.
У него были большие, разбитые ступни, а сам он как будто нахохлился над своим снарядом, на пробу вертя колесо взад и вперед. — Вы ничего не привезли поточить в эту деревню? — крикнул он.
Во мне вновь закрутилось колесо путешествия, и я стал рыться в карманах, сперва в одном, потом в другом, а когда взялся за третий, точильщик сказал:
— Вам не нужно наточить меч? Не нужно наточить пушку?
Я достал перочинный ножик, он выхватил его у меня из рук, с остервенением принялся точить и при этом глядел на меня, черный, как будто продымленный.
Я спросил его: — Не очень-то много есть чего точить в этой деревне?
— Да, стоящего мало, — отвечал точильщик. Он не переставая глядел на меня, а его пальцы, зажавшие маленькое лезвие, плясали над вихревым вращением колеса; он был улыбчивый, молодой — симпатичный тощий малый под старой шляпой огородного пугала. — Стоящего мало, — сказал он. — Такого, чтобы не зря трудиться. И чтобы получить удовольствие.
— Можно хорошо точить ножи, — сказал я. — Можно хорошо точить ножницы.
А точильщик сказал: — Ножи? Ножницы? Вы думаете, в этом мире существуют еще ножи и ножницы?
И я сказал: — Я думал, что да. Разве в этой деревне нет ни ножей, ни ножниц?
Глаза точильщика сверкали, как сталь ножей, когда он смотрел на меня; его разинутый рот на черном лице издавал чуть хриплые насмешливые звуки.
— Ни в этой деревне, ни в других, — прокричал он. — Я обхожу несколько деревень, точу для пятнадцати или двадцати тысяч душ и ни разу не видел ни ножей, ни ножниц.
А я сказал: — Что же вам дают точить, если вы не видите ни ножей, ни ножниц?
И точильщик сказал: — Об этом я всегда их спрашиваю. Что вы мне даете точить? Почему не дадите мне меч? Почему не дадите мне пушку? И смотрю им в лицо, в глаза, вижу, что все, что они мне дают, не заслуживает зваться даже гвоздем.
Он замолчал и перестал смотреть на меня, склонился над колесом, стал быстрее давить на педаль, сосредоточенно и остервенело точил больше минуты. Потом сказал: — Какое удовольствие — точить настоящее лезвие. Вы потом можете метнуть его — и оно как копье, можете схватить его — и оно как кинжал. Ах, если бы у всех было по настоящему лезвию!
Я спросил: — Зачем? Вы думаете, что-нибудь произошло бы?
— Я бы всегда мог получить это удовольствие — точить настоящее лезвие, — отвечал точильщик.
Он снова сосредоточенно и остервенело точил несколько секунд, замедляя колесо, и прибавил вполголоса: — Иногда мне кажется, довольно было бы, чтобы у всех были зубы и когти и их давали бы точить. Я наточил бы их, как зубы гадюки, как когти барса.
Он посмотрел на меня, и подмигнул мне, с искорками в глазах, и зашептал мне на ухо, смеясь, а я стал шептать ему на ухо, и так мы шептались, пересмеивались и хлопали друг друга по плечу.
Потом точильщик вернул мне лезвие, острое как стрела и кинжал, я спросил его, сколько это стоит, он сказал мне, что сорок чентезимо, я вытащил из кармана четыре монеты по десять и положил на полочку его снаряда.
Он открыл ящичек, и я увидел, что тот разгорожен на три отделения, с монетами по десять и по двадцать чентезимо в каждом — всего лир на пять, на шесть. Я сказал: — Не жирно на сегодня!
Но он уже меня не слушал, я заметил, что губы его шевелятся, бормочут. Он был поглощен чем-то, вертел мои монеты в пальцах, и постепенно его бормотание стало громким. Я услышал: «Четыре на хлеб… Четыре на вино…» Потом вдруг: «А усатому?»
Он начал снова, чуть громче: «Четыре на усы… Четыре на хлеб…» Потом вдруг: «А вино?»