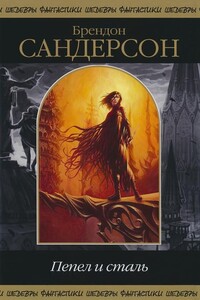Черт побери, так мне даже не начать описание! Я должен был знать, что приду к чему-то подобному – невразумительным дифирамбам.
Вернемся к тому, как мы с Жюли порхали по астероидам. Мы не просто порхали – мы танцевали. Фактически в течение всего времени пребывания на Лебедином озере, все десять лет, мы не переставали танцевать. Над каким бы астероидом мы ни парили, при нашем появлении включалась музыка – миниатюрный электронный оркестр, исполнявший сочинение того композитора, который наиболее соответствовал нашей скорости, траектории полета, идиоритмике движения и настроению. Это могли быть и импровизированные модуляции от одного музыкального произведения к другому и обратно из репертуара любого другого астероида. Зачастую модуляции оказывались самыми восхитительными пассажами (вообразите музыкальное воссоединение Оффенбаха и Стравинского!), которые побуждали нас кружить и кружить с легкостью пушинок, нигде надолго не задерживаясь.
Были и другие механизмы, которые служили той же цели, исполняя обязанности рабочих сцены, управляя светом, создавая бутафорию, оборудуя сцену, когда музыка требовала чего-то более особенного, чем фейерверк…
Аппаратура запахов работала в полной гармонии со всеми остальными механизмами, обеспечивая эстетическую синхронность…
Да, были, наконец, и мы – Жюли, я и другие любимцы. Ансамбль. Мы-то и создавали целостность Лебединого озера, потому что наше веселье было бесконечным, потому что музыка сопровождала нас там повсюду. Я говорю, что мы танцевали, но большинству моих читателей это определение не дает понимания того, чем мы занимались. Для среднего Динго танец – некое заранее разученное упражнение, выполняемое в паре с индивидом противоположного пола. Оно дает выход определенного сорта мощному напряжению по одобренным обществом каналам. Когда танцевали мы, в этом не было ничего столь грубо примитивного. Все, что мы делали, все, что мог сделать каждый, становилось элементом танца: наши обеды, наши занятия любовью, наши тайные помыслы и самые глупые шутки. Танец соединял все эти отдельные элементы в эстетическое целое; он приводил к единому знаменателю неупорядоченность жизни, создавая из нее великолепные гобелены. Наш девиз был не «Искусство ради искусства», а «Жизнь ради искусства».
Как мне объяснить это Дингам? Ничто не пропадало зря. Ни слово, ни мысль, ни обмен взглядами. Думаю, именно это важнее всего. Но был в этом и более глубокий смысл. Всему отводилось точное место, совершенно как в музыкальном произведении, сочиненном по правилам, где каждой струне положено звучать в строго определенный момент.
Еще раз возрождалась старая романтическая идея синтеза искусств: та же самая, что вдохновляла Байрейтские фестивали Вагнера и «Русские сезоны» Дягилева. Но Господин Лебединого озера располагал ресурсами для ее реализации, какие тем двоим приходилось искать на ощупь. И его главным и самым необходимым ресурсом были дорогие, горячо любимые любимцы – мы. Он баловал нас, нежил нас, приводил нас в форму. И не только физически (за физическим состоянием любимцев следил даже самый небрежный Господин); еще больше внимания он уделял нашей ментальной доводке. На деле слишком большая острота ума может оказаться недостатком. Господа Папы на Церере и Ганимеде в большей мере развивали интеллект своих любимцев, чем допускал наш Господин. С тем первым поколением любимцев во всем были допущены кое-какие передержки. Поуп где-то говорил о Шекспире, что тот был «необработанным алмазом». Разве не мог бы Шекспир сказать то же самое о Поупе? Важнее, как видите, быть не остроумным, воспитанным или блистательным, но искренним. Мы, любимцы второго поколения, находили стиль наших родителей сухим, чрезмерно интеллектуальным, неприлично ироничным. Нам хотелось упрощать, а поскольку предметом нашего искусства была сама жизнь, мы упрощали себя. Подобно юному Вертеру, мы культивировали в себе предумышленную наивность. Мы не только жизнь делали танцем, но даже самое простенькое выражение – вроде «спасибо» или «с вашего позволения» – мы превращали в своего рода рапсодию.