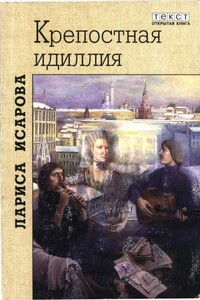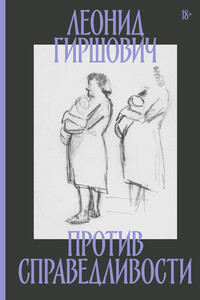— Молчи, Григорий, ты не знаешь, — отвечает меньшая царевна. — Тут только просителей мы принимаем. Пойдем со мной к старшим сестрам, которые тебя ждут уже не дождутся. Тогда и узнаешь, какие залы бывают.
Взяла меня под руку и повела. Когда ввела меня в настоящую царскую залу, я обмер. Вся зала — единый фонтан, струя сверкающая. Посреди стол огромный, бесчисленными морскими яствами уставленный, каждое на морской раковине лежит, заместо блюда. А какие раковины! Что против них фарфор! Одни еще крохотульки, в них только и умещается малютка какой, гребешочек или конечек. Другие гигантские, для осетров всяких, и при этом ни одно лакомство не повторялось, а главное — еще живое все. Я очень обрадовался предстоящему пиршеству. А почему фонтан меня не исторгал, раз я в него вошел, не разметывал всего — да потому что в струе его неслись ровно, как планеты во Вселенной, и стол, и царевна седая меньшая, что вела меня за руку, и ложе, на которое она мне указала, — и получалось, что один восторг движения есть, а так все на месте. Ложе… оно… его надо было видеть. Если зала, яства (о, только не воображайте, что расцвечено зеленым) по сути своей зелень, как, по правде говоря, и сам Каспий — изумрудная родинка на теле земли, то диван мой был… малиновый! Какой потрясающий надрез на зеленой гамме. „Где же твои сестры?“ — спросил я. Показались ее сестры, седые царевны морские. Меньшая сразу же стала позади, тогда как старшая выступила вперед (маленькая перестройка). „Уста“, — сказала она, ее так звали. Я глянул на нее, это были не только уста всех сестер, это была еще и великая услада для всякого, кого лобзали они. Затем вышла другая и произнесла: „Ухо“, — ее так звали, и, повернув голову боком, раздвинула обеими руками пряди, чтобы показать мне свою ушную раковинку. Пока я ее рассматривал, оттуда вылетел пузырек — маленькая жемчужинка — и стремительно унесся наверх. Я так и не понял, что это, оплошность или, напротив того, демонстрация какого-то неизвестного мне достоинства, по лицам же остальных сестер, как и по ее собственному, догадаться ни о чем нельзя было. Третья сестра приблизилась ко мне и назвала себя: „Вавилонский Царь“, — и в самом деле она вся сверкала золотом. Когда стояла поодаль среди сестер, золото ее отливало зеленым, а как вышла да стала близко — диван в ней отразился, и сделалась она… малиновая! Четвертая назвала себя: „Услада“, — и губами сделала такой знак, чтобы привлечь к ним особое мое внимание. И я понял, что она похожа на Уста, старшую седую царевну, которая тоже была усладой — по губам. Пятая и шестая сестры вышли и поклонились почти одновременно: „Утро, Завтрак“, — этим дали они понять, что не сами по себе привлекательны, но именно союзом своим. Что завтрак без утра? А что утро без завтрака? Седьмая, меньшая царевна, которой я если не всем обязан, то которая, во всяком случае, меня привела как-никак, — седьмая, совсем юная царевна осталась. Она робко сказала о себе: „Брови“, — и засмущалась. А меня, если хотите знать, она умилила этим, как ни одна из сестер. „Так если я жених, — подумал я, вспомнив ее слова, — то я могу их всех расцеловать“. И я спросил: „Я жених?“ Но вместо ответа они повернулись ко мне спинами — церемония приветствия еще не была завершена — и показали свои седые, до самых пят, волосы. Только после этого Уста произнесла: „Конечно, ты наш жених. Сейчас свадьбу сыграем“. — „И пир закатим горой?“ — „Уже закатываем“. Сестры уселись по обе стороны от меня на малиновом диване. По правую руку сидели: Уста, Услада (по-моему, ее любимица) и Брови (тоже любимица, да и как можно ее не любить), по левую руку — Ухо, Вавилонский Царь и Утро с Завтраком — щека к щеке. „Чего желает душа твоя, Григорий, на этом столе, укажи“. Я встал, хочу руку протянуть и не могу, так растерялся. Все такое необыкновенное, и до всего охота разом. „А ты спокойно, спокойно, — подбадривает Уста, седая царевна морская, — вот этого попробуй для затравочки“. Она указала на небольшую раковинку поблизости — из крохотулек, в которой покоился конек. Я потянулся было за коньком, но она сказала: „Садись“. И три раза хлопнула в ладоши: „Конек, жених Григорий тебя хочет, яви Григорию свое искусство“. И конек выплыл из своей крохотульки, приблизился ко мне (я же говорил, что все было живое) и, отвесив поклон, как вундеркинд, тоненько запел: