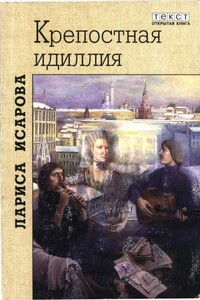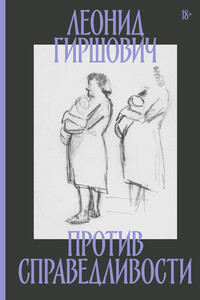Лара не могла ни о чем другом думать. Она была, как первое в мире государство рабочих и крестьян: кругом враги. Но тогда аналогом стран социалистического лагеря был бы лагерь красавиц. Лучше уж навсегда остаться одной во вражеском окружении.
— Ян с Инной ни о чем не говорили?
— У меня же не было сегодня специальности.
Она даже не обратила внимания, что я без скрипки.
— Стала бы я унижаться, если б не мама. Она в жизни такое пережила, о чем даже нельзя никому сказать. Мой отец был иностранец. Мама его спасла. Это было до войны. Летом на Селигере, на даче. Маме было столько же, сколько мне, она закончила девятый класс. Однажды видит, прямо в поле садится самолет. «Вначале, — рассказывает, — подумала, наш. Что-то с мотором. Подбегаю, а это иностранец. Ну, он мне объяснил на ломаном русском, что сбился с курса и совершил вынужденную посадку в поле. Я не знаю, правду говорит или шпион. Если шпион, то должен меня застрелить. Нет, не застрелил. Все равно решат, что шпион. Он снял защитные очки, шлем. Тряхнул вот так головой, чтоб волосы на лицо не падали. Смотрим мы друг другу в глаза, и я чувствую: не могу его выдать. Чтобы взлететь, ему нужно горючее, оно у него кончилось. А как раз была среда. По средам и субботам приезжала цистерна с керосином. Сбегала я домой, взяла два больших бидона, отстояла очередь. Он уже решил: все, не приду. И тут я появляюсь. Залил он полный бак. „Летим со мной“, — говорит. Отказываюсь. Тогда он взял ладонями мое лицо, мы поцеловались, и он улетел. Прошло два года, началась война. Тоже летом, тоже все на дачах. Оглянуться не успели, как попали в окружение. Куда бежать? Я оказалась в оккупации. Вскоре пришел приказ: всех девушек, начиная с пятнадцати лет, отправлять в публичные дома в Германию. Нас повели под конвоем на железнодорожную станцию. Пока ждем посадки, какой-то офицер смотрит на меня. Подошел: „Позвольте представиться, барон фон К. Два года назад вы спасли мне жизнь“. Шепнул что-то начальнику поезда, тот сразу приказал меня отпустить. Оказывается, он знаменитый летчик. Как наш Чкалов. Барон фон К.», — мама никогда не разглашала имен. Карл, и все. Он потерял голову от любви к ней. Очень красивый, мама, конечно, тоже влюбилась. Во врага еще как можно влюбиться, сильней, чем в своего («Как аттический солдат, в своего врага влюбленный»). Идет война, они не знают, сколько им осталось жить. Его часть находилась рядом, они каждый день встречались, он приглашал маму на танцы в «Казино», то же самое, что «Дом офицеров». Эскадрилья, которой он командовал, называлась «Летучая мышь». Все эти дома барон фон К. сверху видел.
На ее доме нет номера: вход во двор с Пушкинской, а белый кружок в голубой шляпке крепится над дворовой аркой. Тем не менее Лара как-то при мне выпалила — это было в нотной библиотеке: «Этюд номер Невский семьдесят семь».
Наступит день, и собственные карбюзье — что твои люфтваффе — оставят от Лариного дома одни стены. (Так совпало, что библиотекарша Циля жила до войны в этом доме. Спустя много лет Циля подорвется на бомбе, и случится это в земле, текущей молоком и медом.)
— Его сбили. «Хорошо темперированный клавир» — больше ничего не сохранилось от отца. Он обожал играть Баха. Когда война кончилась, мама чуть не села за пособничество врагу. И они хотят, чтоб я в этих нотах что-то писала красным карандашом? Извиниться-то я извинилась, но сама простить — не простила. И никогда не прощу. Дай теперь честное слово, что никому не расскажешь, что на самом деле я баронесса. Иначе знаешь, что со мной сделают…
Как римский легат, в своего цезаря влюбленный, я размашисто ударил себя по сердцу кулаком и произнес слова клятвы, уместной в этом случае:
— Ложи мя, яко печать на сердце твоем.
Дословно я не помнил, как там в «Суламифи». Приблизительно: «Положи меня, как печать на сердце твоем, как перстень на руке твоей, ибо сильна, как смерть, любовь, и жестока, как ад, ревность, и стрелы ее — стрелы огненные». Я любил Куприна. Когда-то трижды мы ходили с Клавой на «Поединок». А на «Гранатовый браслет» я уже ходил сам. Только двум из наслаждений жизни не чужд восторг самоубийства: его можно совершить либо от великой любви, как немецкий влюбленный, либо во славу Бетховена, как это сделал еврейский самоненавистник.