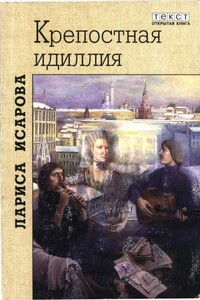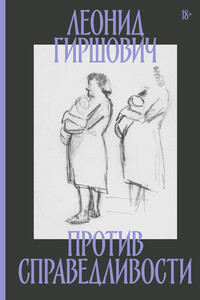Я взял со стола листы движением человека, собравшегося уходить.
— Постойте же! — воскликнула Екатерина Петровна, ловя мою руку через весь стол. — Вы взволнованы, вы должны успокоиться. Возможно, я была не права в чем-то, возможно, не так с вами говорила. Давайте еще раз все спокойно обдумаем, давайте ваш рассказ. — Она взяла верхнюю страницу, последнюю в тексте, и стала ее перечитывать. — Ну вот, у вас тут и Бог, да еще с большой буквы. Честное слово, где это вас так учили… — Но за этим ворчаньем чувствовалось — и я вдруг понял это, к своей безмерной радости, — что я победил. Она еще о чем-то заикнулась — речь, видите ли, хромает: «расправилки» («Так в детском саду могут говорить, писатель должен знать предмет, о котором пишет, вас же юннаты на смех поднимут…»), и тут как хлопнет по столу двумя ладонями сразу: — Ну, хорошо, посмотрим на это с другой стороны. Общая идея: смерть отступает, жизнь оказывается сильнее. При этом никакой поповщины. Жизнь как категория чисто биологическая. Мыза? Помещик? Это можно трактовать как попытку в первую очередь выявить общенациональное в характере героя… Обратно же: желание заставить героя действовать в классической для русской литературы среде. Чехов, Куприн. Воскресают перед взором полотна передвижников. Хорошо, ладно, мы это берем. В конце концов… Кстати, — спросила она, уже держа в пальцах нижний первый лист, — вы хотите, чтобы ваша фамилия была изменена, как у вас здесь, в рукописи?
— Да, это непременно. Строго говоря, это нельзя считать изменением фамилии, а скорее уточнением национальной принадлежности.
— Нет, ради бога, это ваше право. По-моему, ваш папа даже рассказывал, что его так в детском доме по ошибке записали — без окончания… Горелыч!
В дверь просунулась голова, угодливо склоненная набок.
— Горелыч, посмотрите, вот это, — ткнула пальцем в мой рассказ, — идет во второй номер. Гакова и Кин немножко потесним… Да, познакомьтесь, наш новый автор, Владимир Набоков.
IV
История, которую я хотел рассказать, подходит к концу. Второй номер «Большевички» вышел в срок, и пятого февраля я уже видел его на прилавках книжных магазинов. Рассказ «Рождество» занимал шестнадцатую, семнадцатую и половину восемнадцатой страницы. Генерал-майор авиации Гаков («История одной тренировки») и Цецилия Кин со своим «Сном Пассионарии» расположились по обе стороны от него как два шафера.
Вечером того же дня в булочной ко мне подошел человек и проговорил быстрым шепотом:
— Поздравляю. Вы совершили невозможное. Это великий день.
Он сразу же убежал, только пожал мне руку; собственно, как такового, пожатия не получилось: он не попал в мою ладонь, а я, от неожиданности, схватил его за кисть, потянув за нарукавник, почему-то не снятый им после работы и торчавший из рукава пальто.
Изъятие второго номера «Большевички» из магазинов и библиотек началось только через пять дней, когда большая часть тиража уже разошлась по рукам. Я хотел удрать в Ригу, но не успел и вынужден был испить всю уготованную мне чашу до дна. Впрочем, меня пощадили, лишь велели убираться из Москвы куда глаза глядят.
Устименко выложила на стол свой партбилет. («Простите, Екатерина Петровна», — сказал я ей во время нашей очной ставки. «Я бы таких вешала», — ответила Екатерина Петровна.)
Спустя несколько месяцев в Риге, в роддоме на Московской улице, родился один ребеночек. Мы зарегистрировали наш брак с его матерью и живем в мире и любви. Ни одна душа на свете, включая ищеек из ГБ, не подозревает, кем на самом деле доводится мне этот маленький.
Раз, уже совсем недавно, гуляя с ним по Межа-парку, я повстречал Яна Бабаяна-Эскердо со своим маленьким бабаянчиком. Мы разговорились.
— А знаешь, Ян, кто это — Набоков, из-за которого меня постигла кара богов? — спросил я.
С секунду подумав, Ян сказал:
— Конечно. Набоков — это псевдоним знаменитого писателя Сирина, убитого в двадцатые годы в Берлине русскими фашистами.