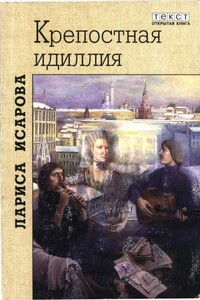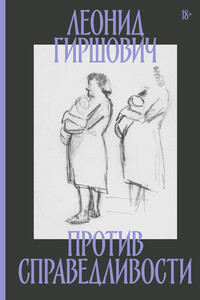Тем не менее прогресс был очевиден, и от этого становилось легко на сердце, как «от песни веселой». Настроение было отличным, на память приходили разные события, следуя неисповедимыми путями ассоциаций. А когда душевная бодрость сообщилась телу, да так, что уже и голод пробился сквозь жажду, как росток в пустыне, и пришлось свободной рукой нащупывать флягу в торбе — чтоб росток голода полить, тогда-то все движение и прекратилось; ремень повис — Муня чуть его не выронил. Значит, они уже три часа как шли, и собака Люцифер остановилась по будильнику… по одному из своих будильников, которые небось болтались на ней призовыми медалями.
Садясь — и придерживая поводок, — Муня наткнулся на… странное чувство — ощущать в кромешной тьме чей-то торс в натуральную величину. «Эй, ты кто?» — его тут же окликнули, но он не захотел говорить ничего, не хотел слышать звук собственного голоса. Он был не прочь послушать, о чем говорят вокруг — люди, чьи тела можно было теперь только лепить из мрака, — но те тоже друг друга словно «избегали». Слышались шорохи, звуки, даже реплики — и ни одного диалога, никакой переброски фразами.
Устыдились. Своего общего позора, скромники. А какие скоты были, какие безмозглые животные!.. Так теперь Муня думал о революционерах. Не о революционерах, конечно, — в праве так зваться он им давно отказывал, много чести. Это была роковая ошибка: революция должна была начаться в другой стране, не такой отсталой, как Испания (кому приятно сознавать, бедный слепой Муня, свое банкротство).
«Свинство!» В гневе Муня вскричал это по-испански, на языке адресата — во фляжке была не вода, а вино — теплое, недостаточно жидкое. И ничего не попишешь — придется пить.
В сердцах сминая в пальцах хлебный мякиш и давя вареную фасоль — добытые в торбе, — Муня подносил рот к горсти, как к корытцу, разве что не хрюкал при этом; нельзя однозначно объяснить, почему он так ел, кому назло. А теперь глоток из фляги и — Viva Españca, как кричали фашисты из своих окопов.
И всегда предстоит есть вслепую — всегда-всегда. Только этому «всегда» быть-то осталось недолго — нужно правде смотреть в ее выбитые глаза. Фашисты больше не кричат «Вива Эспанья!» из окопов, они кричат это на бегу, штыками добивая раненых. Черный гной из прорванного фронта вытекает на юг — слепые для отступающей, для окруженной армии обуза. Да и к тому же слепые, они — что мертвые, им терять нечего, я ведь знаю, как в массе думают: тут и здоровым-то, и зрячим не успеть из окружения выйти. Бросили слепых, это ясно. Как Хензеля и Гретель, сейчас уведет их в чащу собачка-поводырь… когда это было? Они с Annette сидели в театре, на сцене дровосек в синей блузе боится глянуть в глаза своим детям:
— Ihr setzt euch hierher, haltet euch warm, ich sammle Holz und kehre zu euch zurück[48].
В зале полно детей, «Хензель и Гретель» дается только перед Рождеством. «Ну, как там „Хрензель“?» — весело спрашивает отец, повстречавшийся в дверях дома. Пальцами из-под своей рыжей бороды он делает Бабу Ягу.
Вот Муня и заглянул правде в глаза, что на аппетит, впрочем, не влияло — или, точнее, не умеряло ту жадность, с которой Муня набивал себе рот.
«Что есть, в сущности, трапеза слепого?» — рассуждал он респектабельным баском — про себя, уже снова переставляя послушно ноги и держась за сворку; не только мысль скакала блохой с каленой иглы на каленую, внутренний голос тоже ломался и менялся поминутно: то рассудительно-бархатный, что твои бриджи в первый барселонский вечер, то вдруг как завизжит драными подштанниками — и опять тут же как ни в чем не бывало: барин, бархат, Барселона. Что есть, в сущности, трапеза слепого? Слепого гурмана — я имею в виду. Хотя не быть гурманом слепой не может. Один на один с ароматом и вкусом — он-то и есть великий дегустатор. Ни предубеждений, ни пристрастий не родится у него при виде накрытого стола. Его не подкупишь саксонским сервизом. Любой декоратор от кулинарии бессилен ему угодить. Вкус, и только он, — вот мера вкушаемой пищи. А лучшей сервировкой слепому служит запах. Традиционные названия блюд — тоже пережиток. Их отменить, вместо них создав