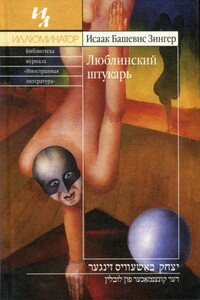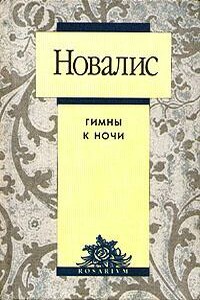— Я готов дать развод.
— Сейчас? Посреди ночи? Ты что, не в себе?!
— Хорошо, подождем до завтра.
— Где ты остановился? Почему мне не написал?
Акива, шаркая, последовал за ней. Казалось, с его приходом в квартире запахло ритуальными омовениями, синагогальными свечами, потом и плесенью — всей провинциальной затхлостью, которую Гина давно забыла. Она открыла дверь в комнату Асы-Гешла, включила свет и только теперь хорошенько его рассмотрела. Акива весь как-то съежился. В жиденькой, нерасчесанной бороде застряли какие-то нитки и пух. Редкие пейсы были забрызганы грязью. Пальто протерлось на швах, и оттуда торчала подкладка. Шея была обмотана шарфом. Руки висели, словно у покойника. Глаза из-под густых бровей настороженно бегали. Гина содрогнулась:
— Что с тобой? Ты болен?
— Хочу довести дело до конца, — пробормотал Акива. — Надо с этим кончать. Так или иначе.
— А ребе… твой отец… он в курсе?
— Против не отец, а бабушка. Наплевать. Я на себя грех не возьму.
— Садись. Сейчас принесу чаю.
— Нет, не нужно.
— Чего ты боишься? Что чай не кошерный? Мог бы хоть открытку написать, дать мне знать. Извини, но ты и сейчас ведешь себя глупо.
Гина вышла и закрыла за собой дверь. Щеки у нее порозовели, в глазах стояли слезы. Она решила было позвонить Герцу Яноверу, но испугалась, что кто-нибудь выйдет из гостиной и услышит, о чем идет речь. Она пошла на кухню и вернулась с кувшином, тазом и полотенцем. Акива снял шляпу, под ней оказалась смятая кипа. Под расстегнутым лапсердаком Гина разглядела талис и цицит.
— Можешь помыться, — сказала она. — Хочешь, я принесу тебе поесть? Внизу кошерная мясная лавка.
Акива замахал руками.
— Съешь хотя бы хлеба или яблоко.
— Я не голоден. Сядь. Хочу тебя кое о чем расспросить.
— Спрашивай.
— Говори, как есть. Ты жила с ним в грехе?
Гина почувствовала, как у нее пылают щеки. Она сделала шаг к двери, а затем повернулась к Акиве лицом.
— Опять ты за свое, — сказала она. — Ты уж прости меня, Акива, но мне просто смешно тебя слушать.
— Согласно Талмуду, женщина, совершающая прелюбодеяние, нечиста не только перед своим мужем, но и перед своим соблазнителем.
— Только не цитируй мне Талмуд. Если ты готов дать развод — давай, а от упреков меня избавь.
— Дело не в упреках. Какой смысл в разводе, если твой грех никуда не девается? В Талмуде такой развод сравнивается с омовением человека, который одной рукой моется, а в другой держит мертвую змею.
— В геенну все равно же попаду я, а не ты. Я достаточно настрадалась в жизни и готова к любой пытке — пускай на том свете хоть ножами кромсают. Ты и сам прекрасно знаешь, что я претерпела. Наш брак с самого начала никаким браком не был. Уясни это себе раз и навсегда.
Некоторое время Акива молчал. А затем сказал:
— Я смотрю, тебе здесь, в Варшаве, живется не так уж плохо.
— Врагам моим такой жизни не пожелаю! Чудо, что я вообще еще жива! Ко всему прочему, у меня камни в почках. Иногда на стену от боли лезу. Мне надо лечиться, принимать теплые ванны — но ведь нет же ни гроша! Один Бог знает, сколько я так протяну!
— Если б ты сама не решила себя погубить, у тебя было бы все необходимое: достаток в этой жизни и рай — в загробной.
— Какая разница? Все равно же все предопределено. Можешь сегодня здесь переночевать. Эту комнату занимает один молодой провинциал, но я уложу его в другом месте. А сейчас мне надо идти — у меня гости.
— Что-то я не заметил у тебя на дверях мезузу.
— Висит на входной двери.
— Мезуза должна висеть на каждой двери. Я найду, где мне переночевать.
— Где же? Уже поздно.
— На Францисканской.
— Послушай меня — оставайся здесь. Хочешь, я прибью мезузу и на твою дверь. Раз уж пришел, оставайся, а завтра, будем живы, все решим. Раз и навсегда. Кто знает, может, они опять станут тебя уговаривать, и придется начинать все сначала.
— Мезузу, прежде чем вешать, надо осмотреть.
— Кто ж тебе мешает? Вот и осмотри.
— Это должен делать сойфер. Что-то может быть не так, бывает пропущена буква…
— Господи! Ты меня с ума сведешь! Я уже успела отвыкнуть от этого фанатизма. Подожди здесь. И не страдай — грех будет на мне.