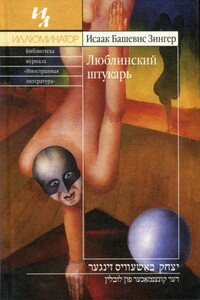Дом пана Зажиция находился на Хоже, мастерская Янека, в которой, кроме него, работали еще трое художников, все как один евреи, — на Свентокшиской. Как странно: с самого детства судьба сводила его с евреями! В старших классах учился всего-то один еврей — и именно с ним Янек и подружился. В школе правоведения его сокурсниками были евреи. Потом, когда он перешел в художественную школу, вокруг него почему-то тоже оказались одни евреи, хотя их в школе было очень немного. Студенты христианского вероисповедания вообще сомневались, что он — католик, сын польского дворянина. «Эй ты, еврей, чего не едешь в Палестину?!» — не раз дразнили они его.
Было время, когда Янек сам ненавидел свои темные еврейские глаза, темно-каштановые волосы и евреев, на которых он так был похож. Он рисовал на евреев карикатуры, пускался в споры с другими художниками, вел себя, как антисемит. Он собирался переехать в Италию, где все христиане были смуглыми и никто бы не обозвал его евреем. В Польше же от евреев спасу не было. Отец только про них и говорил. Их обвинял во всех смертных грехах в своих проповедях священник. На них постоянно жаловалась мать. Варшавские улицы были забиты евреями. Куда бы Янек ни шел, его останавливали какой-нибудь еврей или еврейка и задавали ему вопрос на идише. Не проходило и дня, чтобы ему не приходилось с раздражением повторять: «Простите, но я не еврей».
Мало того что Янек похож был на еврея внешне — он, как и все евреи, избегал драк, не переносил спиртного, робел, замыкался в себе. В школе он много и вдумчиво читал, спортом не занимался, ходил в музеи и на выставки. В те дни он писал причудливые пейзажи, каких-то странных зверей. В школу правоведения он пошел, чтобы угодить отцу, однако с самого начала понимал, что юристом не станет. В художественной школе он постоянно ссорился со своим учителями, называвшими его декадентом, нигилистом, евреем. Когда ему исполнился двадцать один год, он явился на медкомиссию, однако в армию взят не был — у него оказалось больное сердце. Когда он в первый раз попал в публичный дом, судьба бросила его в объятия проститутки-еврейки. Когда впоследствии ему попалась в руки «История франкистов» Краушара, он заподозрил, что и сам произошел от этих обращенных евреев. Его бабушка как-то обмолвилась, что его прабабка была урожденная Воловская — это имя позаимствовали сыновья Элиши Шура.
Сколько раз Янек давал себе слово избегать евреев, забыть про них, однако судьба распорядилась иначе. Он влюбился в Машу — полюбил ее с первого взгляда. Его друг, скульптор Яша Млотек, лепил ее, и стоило Янеку ее увидеть, как он понял, что только о ней он и мечтал всю жизнь. Он обменялся с Машей двумя-тремя словами, и ему сразу же сделалось легко на душе. Ее портрет стал лучшей его картиной — это признавали все. Они любили друг друга в алькове, где имелась печь с кривыми трубами, в углу были свалены недописанные холсты, покрытые густой пылью рамы и стоял видавший виды диван со сломанными пружинами и торчащим из него конским волосом. В это самое время Млотек распевал в их общей мастерской еврейские песни, полные вздохов и стенаний, Хаим Зейденман, литовец, когда-то ходивший в ешиву, варил картошку в мундире и уплетал ее с селедкой, а Феликс Рубинлихт валялся на диване и читал журналы. В мастерской никогда не было ни пьянства, ни ссор. В том, как эти еврейские художники работали, как говорили об искусстве, как острили и даже отпускали неприличные шуточки, было что-то душевное, что-то, что невозможно передать словами. В еврейских девушках, которые приходили в мастерскую, тоже была какая-то странная смесь свободы и набожности. Маша рассказывала ему про своего деда, патриарха Мешулама Муската, про отца, про дядьев и про раввина из Бялодревны. Она ходила с ним по улицам и показывала пальцем на дома, где все они жили, — Натан, Нюня, Абрам. Когда же он напоминал ей, что из-за того, что он поляк, а она еврейка, их не ждет ничего хорошего, — Маша только легкомысленно отмахивалась, словно отгоняя все его страхи. «Все очень просто, — говорила она. — Либо я стану христианкой, либо ты евреем».