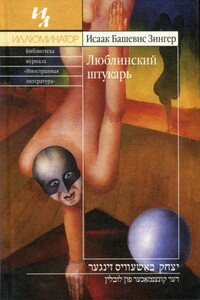В комнату вошла пани Зажицая, жена старика.
— Что здесь происходит? Эй, отец, выпей стакан молока. Что ты его обижаешь, Янек?
— И не думаю. Просто он любит рассуждать и…
— Утихомирься, сынок. Он и без того всю ночь кашлял. Я глаз не сомкнула. А теперь ты его огорчаешь. Еще сын называется!
У маленькой, худенькой пани Элизы Зажицой были темные глаза еврейки, — возможно, поэтому она не расставалась с массивным распятием и четками. Ее седеющие волосы забраны были в узел. На поясе висела связка ключей. Она была моложе своего мужа на пятнадцать лет, но лоб уже избороздили морщины. С тех пор как они переехали из поместья под Люблином в Варшаву, она постоянно хворала. К тому же ее не покидал страх: боялась она всех — воров, поджигателей, слуг, что отравляют своих хозяев и выкрадывают семейные драгоценности. Каждый день она внимательнейшим образом, не пропуская ни одного объявления, изучала «Варшавский курьер». Кроме того, у дворника она брала читать антисемитские «Два гроша».
Элиза поставила перед мужем на стол стакан молока:
— На, выпей, отец, успокойся.
— Терпеть не могу это ваше молоко!
— Пей, помогает от кашля. Господи, молоко с каждым днем все дорожает и дорожает. Говорят, что и чая тоже скоро не будет.
— Скоро вообще ничего не останется, — перебил жену пан Зажиций. — За квартиру никто больше не платит. Кругом одни жулики да воры, уж ты мне поверь. Еврейские спекулянты скупают все съестное, все, что таким трудом достается нашим бедным крестьянам.
— Да, да, ты прав. Я проходила по еврейским улицам и сама видела. Рыжебородые евреи стоят у своих лавок и никого внутрь не пускают. У самих подвалы забиты мукой, сахаром и картошкой. А попробуй попроси у кого-нибудь из них фунт муки, и он тебе скажет: «Нет, ничего нет».
— Вот видишь, а твой сын хочет жениться на одной из таких.
— Пускай женится, отец. Нам с тобой все равно скоро помирать. Придет время, и он сам пожалеет, что запятнал доброе польское имя.
Янек встал и вышел из комнаты. В коридоре, стоя у зеркала, причесывалась его сестра Паула, двадцатилетняя блондинка с голубыми глазами и ямочками на щеках. Брата она была моложе на пять лет; два года назад она кончила школу и теперь сошлась с парнем из богатой семьи, студентом Политехнического института. У отца Янек позаимствовал высокий рост, а у матери — темные глаза, которые никак не вязались с его вздернутым славянским носом. Редкие темно-каштановые волосы он зачесывал назад, обнажая высокий, крутой лоб. В академии, где он учился живописи, студенты дразнили его «евреем».
— Что это ты принарядилась? С Болеком встречаешься?
— А, это ты. Вырос, словно из-под земли, как привидение. А я решила, что ты уже съехал.
— Скоро.
— У тебя на насесте небось холодно, а?
— Сделай одолжение, не называй мою мастерскую «насестом».
— Господи, какие мы чувствительные! В «Курьере» мне попалось на глаза объявление о новой выставке. Твоего имени там нет. Забыли, видать.
— Вспомнят еще.
— А вот еврейских художников не забыли.
— И что?
— Будто не понимаешь. О чем ты ругался с папой? Кричал на весь дом.
— Прости, если мы тебя разбудили.
— Смотри, ты их своими фокусами в гроб вгонишь.
— Заткнись.
— А вот возьму и не заткнусь. Еврейский прихвостень!
Раньше бы Янек не стерпел и дал сестре пощечину, но теперь Паула стала взрослой, с ней так обращаться было нельзя, к тому же Янек настолько отвык от родительского дома, что не мог себя заставить принимать участие в семейных склоках.
Янек вышел из дома. Во дворе он заметил возведенный на Суккос шалаш, из-за которого жившие в доме христиане каждый раз поднимали скандал. Каждый год на Суккос две еврейские семьи строили шалаш — и каждый год отец Янека приказывал дворнику его снести. Однако в этом году, воспользовавшись тем, что пан Зажиций больше на улицу не выходит, они вновь поставили символический шалаш. Янек с изумлением рассматривал странное сооружение. Ему захотелось посмотреть, что там внутри, но он побоялся, что его сочтут циником и насмешником. Как было бы интересно, подумал он, написать картину с шалашом, в котором отмечают свой праздник евреи: горят свечи, евреи распевают песни, а их жены вносят подносы с праздничной едой.