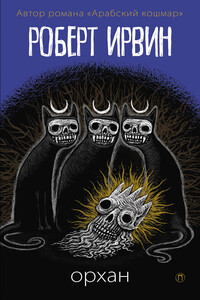— Харчиться станешь в поварне, покуда князь чего иного не прикажет. Колода с водою на дворе. Мимо кобеля не ходи: враз портки порвет, он у нас злой…
— Тебя как звать-то, ворчун? — приветливо спросил Аверьян.
— Петрухой кличут, — безучастно сообщил холоп, выходя.
Оставшись один, Аверьян достал из-за пазухи краюху хлеба, пожевал ее, глотнул воды из жбана, после скинул сапоги и растянулся на лавке, задумчиво глядя на огонек лучины, пока она не сгорела. В темноте он вздохнул и, сомкнув веки, привычно мысленно вызвал милый образ Ульяны. С тем и уснул.
Еще затемно наместник приказал разбудить слуг, велел им помыться, сменить исподнее да обрядиться по-праздничному. Из кладовой-повалуши принесли лучшее платье, надеваемое редко, по самым знатным случаям. Ныне как раз такой случай: князь Ковер собирался к государю, и слуги должны господину соответствовать. Оглаживаясь да прихорашиваясь, они долго примеряли ворох рубах с вышитыми воротами, камчатные кафтаны с богатыми кушаками, шапки с куньей опушкой. Аверьяну поднесли пожалованный наместником лазоревый кафтан из мягкого аксамита. Впервые оделся он столь богато, невольно хотелось выпятить грудь да подбочениться.
Наместник залюбовался слугами:
— Соколы! То и мне в честь — вас, эдаких молодцов, подле себя иметь.
Сам Ковер был одет с подобающей случаю пышностью: поверх рубахи, ворот и края которой были расшиты золотом и шелками и унизаны жемчугом, тонкий суконный кафтан; на кафтан накинута ферязь с длинными, суженными к запястью рукавами, с золотыми пуговицами-кляпышами; а поверх ферязи шуба до земли багряно-желтого зорбафу, парчи тяжелой, иноземной, на собольих пупках; из-под шубы выглядывали сапоги — красные, сафьянные, с длинными острыми носками, на высоких каблуках с железными подковками. На обритую голову князя, на круглую шапочку-тафью, скрыв ее, водрузили бархатную мурмолку, собольи отвороты ее спереди пристегнули огромными жемчужными пуговицами.
Князь осмотрел себя в зеркале, довольно хмыкнул. «Как же он на коня-то взлезет?» — с сочувствием подумал Аверьян, принимая завернутых в парчовую пелену соболей. Такой же тюк получил Федор, ревниво косясь на соперника, ставшего неотразимым в богатом платье: и тут обошел его Аверьян! На самом тиуне, неказистом от роду, и лучшие одежи сидели как на медведице сарафан.
— Пора! — князь Иван легко сбежал с крыльца и, к удивлению Аверьяна, ловко взобрался в седло. — С Богом!
Поначалу отправились в ближайшую церковь, отстояли обедню, от души возблагодарив создателя за бережение в пути, и поехали во дворец.
Лошадей оставили далеко у Кремля и пешими, по обычаю, вошли на государев двор через Гербовые ворота с башнею; на вершине той башни красовался герб, знак государства Московского — двуглавый орел, а на стенах — знаки земель, Москве подданных. Аверьян с любопытством огляделся: вот оно как в Кремле-то! Разновеликие и многоцветные дома теснились друг подле друга. Пестроту добавляли несходные крыши — двускатные, епанечные — четырехсторонние, шатровые, бочки с гребнями, маковицы, башенки — и множество резных украшений.
В государевом дворе и на лестницах толпились люди, кто с челобитными, кто с подарками княжичу. Все пришло в движение, когда разнесся слух, что великий князь с княгиней на крыльцо не выйдут, в палате принимать станут: воздух, мол, ныне сырой, боятся наследника застудить. Поколыхавшись недолго, все терпеливо стали ждать своего часа.
Дождавшись своей очереди, Иван Ковер шагнул в Приемную палату. Князь гордо выступал впереди, за ним слуги, Федор с Аверьяном, несли на вытянутых руках огромные тюки прикрытых парчою соболей. Аверьян косил глазом по сторонам: думные бояре с дворянами стояли кто в шубах, кто в нарядах попроще, иные так беднее его, Аверьяна, одеты. Знать, князь Ковер по московским-то меркам не из последних, коли своих слуг лучше людей родовитых вырядил.
Посреди палаты, на возвышении в несколько ступеней, на изукрашенном престоле, государь, с лицом, ровно у отрока юного, голым. Слыхал Аверьян, будто князь великий обрился, да не верил тому, а ныне сам увидал и поразился: никогда еще зрелый муж на Руси не отваживался лик оголить. Ну, на то он и государь, чтобы самому себе дозволять.