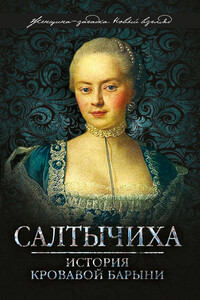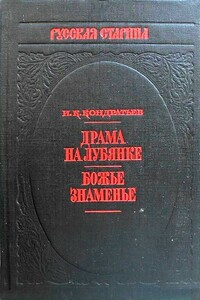– Буде пищать! Нишкни! – произнес он сдержанным голосом и притопнул ногой.
И это было так наивно, так комично и так не вязалось с обстановкой беглецов, что спасительница вдруг рассмеялась, но так же вдруг и замолкла, припугнув самого Иону Маркианыча:
– Молчи ты! Чего кричишь? Услышат – придут, прибегут, тогда уж несдобровать твоей дурацкой головушке!
– И то! Ах! – прошептал Иона Маркианыч, невольно приседая к земле. – Эк я, тесина волоколамская!
– Тесина и есть! – сказала Чертова Сержантка и спросила: – Чего там болтал? Чего городил? Что было?
– Ох, пустое совсем дело было! Ахти, какое пустое! Кабы знал – не рассказывал бы. Не думал, не гадал, чтобы старый солдат, старый дружище на меня посягнул!
Тут Иона Маркианыч рассказал, в чем было дело.
– Ах он, старый дурень, черт старый! – произнесла хулу на своего отца Чертова Сержантка.
– И впрямь дурень! – подхватил Иона Маркианыч.
– Было бы за что, а то – на-ка! – продолжала Чертова Сержантка. – Привязался к слову – и губить человека!
– И губить человека! – тут же подхватил Иона Маркианыч.
– Ведь этак-то за все можно осудить человека.
– За все можно!
– Ну да ты не бойся, Зуботыка, в обиду я тебя не дам.
– Родимушка! Пригожая моя! – умилился вдруг Иона Маркианыч и с искренними слезами на глазах упал к ногам своей спасительницы. Он обхватил их обеими руками и начал целовать то одну ногу, то другую. При этом все продолжал шептать: – Родимушка! Пригожая моя!
Это повлияло на девушку одуряющим образом. Глаза ее сверкнули, щеки запылали. В сердце зашевелилось то ли чувство удовлетворенности, то ли чувство капризной прихоти, которые при известных условиях так свойственны женской натуре от восьмилетней девочки до шестидесятилетней старухи.
Чертова Сержантка глядела во все глаза на ползающего у ее ног Иону Маркианыча, этого урода в образе человеческом, всеми забытого, всеми презираемого, и чувство жалости, смешанной с привязанностью, как-то само собой зарождалось в ее молодой груди. Было ли это отголоском прежних впечатлений, или же оно, чувство это, зародилось в настоящую минуту посреди этих акаций, посреди этой всеобщей тишины замирающего сада, девушка не знала да и не хотела знать. Но только ей все вокруг показалось неожиданно – и чем-то светлым, и чем-то приветливым до забвения.
И она точно вдруг забылась.
– Дорогой!.. Ладный!.. – невольно прошептали ее молодые уста.
И она сперва наклонилась к уроду, потом и совсем опустилась возле него.
– Ты не плачь… не плачь… – продолжала она. – Тебя никто не обидит… нет, теперь тебя никто не обидит… аль ты не видишь?..
– Ох, вижу, вижу! – отозвался урод.
– А видишь – молчи, молчи! Слышишь ли – молчи! Чтобы никто не знал, чтобы никто не ведал… Молчи!..
И она на мгновение замолкла, протерла глаза, как будто они у нее заслезились и, словно бы что-то соображая, продолжала тихим, проникающим в душу голосом:
– Я все давно знаю… все… я не маленькая… Ах, как мне не спится по ночам!.. Все-то душно, все-то сны в голову лезут… Вчера в ночь приснился мне ты…
– Я? – промолвил трепетно Иона Маркианыч.
– Ты, ты, урод чертов! – почти вскричала девочка, точно обозлившись на него. – Ты! – И она с силой оттолкнула от себя урода.
Тот молча откатился в сторону, приподнялся, сел и сиротливо опустил голову.
Чертова Сержантка взялась руками за голову и, не обращая внимания на Иону Маркианыча, стала сама с собой рассуждать: «Девочка!.. Вот как!.. Какая же я девочка!.. Я девка… просто девка… Вон какая рослая, здоровая… Отец не напрасно назвал дубиной… Дубина и есть!»
Вдруг она тряхнула головой.
– Ты, уродина! – крикнула она Ионе Маркианычу,
– Ась? – отозвался тот пугливо.
– Скажи-ка ты мне: ведь девка я?
– Девка, государыня, девка.
– И рослая?
– И рослая.
– И здоровая?
– И здоровая.
– Так, стало быть, отец мне не указ?
– Не у… – начал было Иона Маркианыч и вдруг поправился: – Ах нет, нет, государыня! Указ! И большой указ! Отец дочке завсегда указ… так и в Писании сказано…
– Все ты врешь, чертова башка!
– Ах, не вру, государыня!
– Врешь! Кто же может человеку указывать, когда он вырос и по-своему жить может?
– Не может! – настаивал Иона Маркианыч.