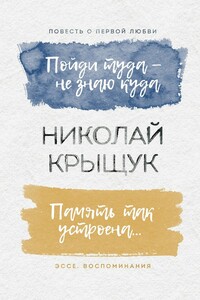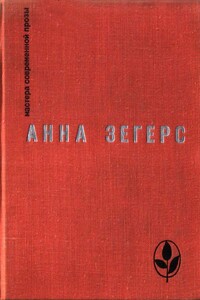, — со сросшимися бровями, прямым носом, озабоченнострадальческого вида, как бы думающего о судьбах мирового еврейства. Чем-то я ее обидел, и она заявила, что я антисемит. И был еще главный арабист Габучан, заведующий кафедрой арабского языка, армянин из Египта. Он меня ненавидел, потому что я откровенно ему сказал, что я тюркский патриот.
В университете, как и в школе, я просто не понимал, в какой реальности живу. А я всего-то высказывался про советскую власть, про национальности, комментировал «Истоки и смысл русского коммунизма» Бердяева и еще что-нибудь. Вел себя как привык, а это было абсолютно потусторонне для моего университетского окружения. Эти люди не могли понять, как я могу так себя вести. Они, может, думали, что я провокатор или приехал с Земли Санникова, что я не понимаю правил игры. И я ни с кем не сближался — это оскорбляло.
Я так себя вел, что вылетел из университета быстро и с треском.
…Комсомольское собрание кипело. Два человека высказались по поводу моего «национализма».
И Козловский, вокруг которого сформировалась целая свора сикофантов и прихлебателей, считал, что я — образцовый антисемит, которого он по жизни встретил, чтоб наконец-то ясно увидеть, что такое антисемитизм.
Он был организатором компании против меня. Это же была просьба комсомольского собрания курса — просить о моем отчислении из университета. А дирижировал этим как раз Козловский[86].
Мой друг Виталий Гайдар считал, что Козловский ставил перед собой задачу вернуться в обойму после унижения семьи в лице репрессированного деда. Козловский стал секретарем комсомольской организации курса и планировал к третьему курсу поступить в партию и дальше уже как ракета улететь. Но в итоге он вышел со свободным дипломом, болтался и потом уехал в Штаты, где издал несколько томов словаря русского арго, материал для которого он собирал несколько лет, приводя к себе домой отпущенных из лагерей ханыг, которых искал по вокзалам и записывал их тайно на магнитофон[87].
И только Алла Стерлинг выступила и сказала, что все сволочи.
Я был очень тогда простой, наивный. Привык к 50-й школе, где все происходило камерно, ничего наружу не выходило. Там меня выпускали в качестве защитника Мао Цзэдуна, и я на сорок минут занимал класс, рассказывая про бумажного тигра и соломенного льва. Я привык к свободе. По совершенно случайно сложившимся обстоятельствам я вырос в абсолютно «несовковой» ситуации, — благодаря школе, где скандалы поглощались. Хоть меня там и не любили, но никто не стучал. На дворе стояла хрущевская оттепель — вторая короткая оттепель, как я потом узнал. Говорил, что хотел, и на всё мне было наплевать.
А тут я оказался в волчьей совковой среде — с подсиживанием, комсомолом, где «каждое лыко в строку»: любое мое выражение фиксировалось и докладывалось.
Позже, весь такой обновленный, уже после моего изгнания из университета и армии, я зашел к Володе Александрову в его квартиру на Тверской, а там тусовка. Молотников сидит, Юрасовский, вся братия. И Козловский тоже там. А мы не разговаривали друг с другом.
Слово за слово, и Козловский говорит:
— Я не верю, что кто-то мог прочесть Радхакришнана.
Радхакришнан — автор двухтомника по истории индийской философии. У меня этот труд был, естественно, изучен, и я сказал, что читал.
— Ну, я про тебя не говорю, ты особый случай, — ответил он.
И вдруг в конце вечера, когда все расходились, он мне предложил пойти к нему и пообщаться, по душам поговорить. Ну, пошли. Он жил где-то в районе Тверского бульвара. Дворик, высокий первый этаж. В общем, заныр.
Зашли, он достал недопитую бутылку водки, какие-то помидорчики, огурчики, и стал говорить очень откровенно:
— Я ненавижу вас с Юрасовским, потому что вы антисемиты.
— А что для тебя антисемит? — спрашиваю.
— Антисемит это… — И тут его понесло. — Ну вот представь себе бельэтаж. Живет еврей-профессор — культурная жизнь, бронзовые фигуры, фарфор, полная библиотека книг. А внизу живет слесарь, который напивается каждую пятницу и пляшет, аккомпанируя себе на гармошке. А потом он падает в свою блевотину и спит. И он ненавидит этого еврея-профессора сверху.