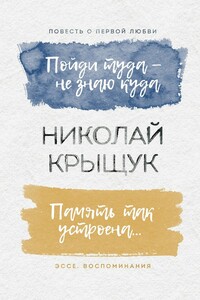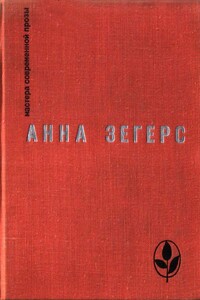И во всё это с работы приходил отец, невысокого роста маленький человек с огромным тяжелым портфелем — примерно с треть него самого. Замкнутое страдальческое выражение лица.
Он входил в черном костюме без единой пылинки, белая рубашка и галстук. Единственная неожиданная вещь в комнате — пианино. Дружинин-старший ставил портфель и, не обращая ни на кого внимания, садился на вращающийся стул, открывал крышку, закрывал глаза и начинал самозабвенно играть. Ни на кого не смотрел, ни с кем не разговаривал, никому не кивал. Сидел и играл.
Не знаю уж, что должно было случиться, что он женился на этой еврейке, которая еще притащила свою мамашу-бундовку. Да, ходили слухи, что она, будучи в БУНДе, знала Махно на Украине. По-русски она не говорила или говорила очень плохо. Дружинин-старший, видимо, совершил гуманитарный акт в своей жизни, и эта жизнь превратилась в ад. После чего он только играл, закрыв глаза.
Он служил в «ящике» на должности видного, хорошего инженера.
Они жили в одной комнате, а в другой жили его две сестры, которые были монахини. Те вообще не выходили. Когда они открывали дверь, пускали к себе только Сережу. И когда они открывали дверь, чтобы он туда просочился, я видел, что там все в кивотах, окладах, лампадах, свечах, все горит золотом и полыхает, все забрано иконами с потолка до пола. Очень жарко натоплено. На лицах, закутанных в платки, бородавки. В это сатанинское пространство, где бегали с перекрученными чулками и лежали на рундуке, они не выходили. Брата к себе не пускали. Пускали из жалости только племянника.
Потом я в доме Лены на Гагаринском тоже нашел двух сестер-монахинь — они как-то парами обитают, видимо. Там на мансардном этаже тоже жили две, но дворянского происхождения. А эти, у Дружинина, купецко-мещанского рода.
Сережа был умненький, и мы много-много с ним обсуждали разных вещей. И фрейдизм, и вопросы философии, и конечно советскую власть.
И вот в 1968 году — я уже жил у Лены — иду по Денежному переулку мимо итальянского посольства в сторону Пречистенки, а на встречу мне идет Дружинин.
— Сережа!
Он обрадовался. Я обрадовался.
Пригласил его к себе чаю попить. Он шокирован обстановкой, потому что тогда у меня практически ничего дома не было, никакой мебели. И такие сомнительные обои, довольно рваные.
Мы пришли, и я его спрашиваю:
— Ну, ты чем занимаешься?
— Я в Институте связи.
— А что в связи? Это же, по-моему, скучное дело — связь.
— Ну надо же рационально подходить к вопросу о будущем, думать о будущей семье. Связь — такое дело, всегда будет куском хлеба.
Как-то не пахнет прежним Сережей, и дальше он спрашивает:
— Ну а ты что делаешь?
И я даже задумался, как бы ему объяснить.
— Ты знаешь, занимаюсь философией и религией. — Религией?
А мы о ней много говорили когда-то, кстати.
— Странно… Это же смешное.
— Как это — смешное? Что ты имеешь в виду?
— Ну это же от страха перед молнией в пещере.
— Сережа, ты что, на голову упал? Как-то ты странно проэволюционировал. Стал каким-то зародышем, хотя раньше был родившимся человеком. Что с тобой случилось?
Он как-то поежился. Не знаю, обиделся или нет. Через 10 минут я его уже начал выпроваживать. Не много мы посидели, и я задумался, что же это такое? В 7–8 классе этот мальчик был моим собеседником, а став студентом, превратился в идиота. Больше я его не видел.
Я задним числом пытаюсь определить, какую роль в моей жизни сыграла 50-я школа, потому что уже довольно давно задаюсь вопросом, что такое образование, в каком смысле я был образован или не образован, сформирован или не сформирован, и если сформирован, то чем.
Сказать, что я получил высшее образование, не могу, потому что слишком недолго учился в университете.
Получил среднее образование? Все, что я знаю, не пересекается со школой никак. Читать и писать я научился до школы, всю русскую литературу изучил за счет чтения, убегая с уроков.
Не могу сказать, что школа приучила меня к какому-то организованному интеллектуальному труду. Под давлением бабушки, довольно агрессивным, я занимался тупым запоминанием без усвоения скучного и неинтересного мне продукта.