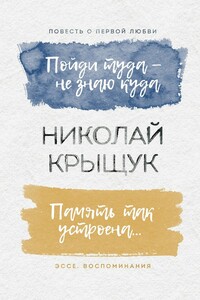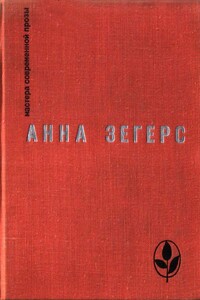Когда я встретился с Мамлеевым и кругом Южинского, Леша выделился в особый камерный подмир, который я не допускал к контакту с большим, основным миром, миром Южинского. Они, как огонь и вода, были несовместимы — Юрасовский в том круге выглядел бы фриком, при этом он бы воспринимал фриками всех остальных. И я старался держать их раздельно.
Лёша много знал, был эрудит. Он был интересен своим маньеризмом — неожиданными барственными выкрутасами, которые заставляли смеяться или приводили в хорошее расположение духа. Но в какой-то период я понял, что с меня хватит, и перестал с ним поддерживать отношения[69]. Так что Лёша Юрасовский пучком лучистой энергии улетел в бесконечность.
Я пытался найти его в интернете. Прочел его письмо — ответ читательнице. Та рассказывает историю о какой-то усадьбе, где некий наполеоновский пленный, граф, состоял не то управляющим, не то еще кем-то. Она задает вопрос, а Лёша подробнейшим образом описывает историю усадьбы, графа, его потомков.
Это большая дружба моего детства. Раннего детства — Козьменко, и позднего детства — Юрасовский.
Еврейская тема сопровождала меня с самого детства. Прежде всего потому, что подвалы в домах в моем районе, на Мансуровском, густо заселили в основном евреями, убежавшими от войны из западных областей СССР. Галдящее гетто. Натуральные хорошие кондовые евреи гортанно перекликались с сильным акцентом, — у них всё время стоял дым коромыслом, они били тряпками своих детей, гонялись за ними подвору. «Гевалт!»[70] имел место.
Наиболее яркой для меня фигурой, когда я был пятишести лет, был горбун — несчастный молодой человек с типичным, очень красивым, еврейским лицом, внешне напоминающим актера или певца Морфесси, что-то такое. С большими черными глазами и с мешками под ними, с идеальным пробором в черных блестящих волосах. Он ходил в коричнево-бежевом пальто.
Интересно, что я недавно встретил у синагоги еврея в кипе, — и он тоже был в светло-коричневом пальто. Может, это какой-то «сигнальный» цвету евреев.
Горбун в хорошем пальто, очень длинном, говорил скрипучим голосом, который меня пугал. Он не мог выговорить мое имя. Когда он меня видел, говорил что-то вроде «Гидарэээ» и делал вид, что идет за мной. Я от него убегал со всех ног, потому что он мне внушал непреодолимое отвращение и ужас.
В пятом-шестом классе у меня образовалось два любопытных контакта среди одноклассников.
Мой приятель Лёва Цинклер — здоровый, плотный, рослый для своих лет, курчавый. Из совсем простых евреев. Очень любопытный персонаж.
Сестра Левы Цинклера — стройная девушка старше его, со сросшимися бровями, красавица, строгая, очень серьезная, с легким пушком на губе. С величавым видом она ходила под руку с подругой.
Лева Цинклер на каждой переменке подходил к сестре, и отступая перед ней задом, давал ей отчет: «Я нашалил, мне сделали запись в дневнике, я получил тройку». А она шла и, глядя перед собой, говорила: «Очень плохо, Лёва, очень плохо». Иногда немного расширяла: «Ты же знаешь, как родители выбиваются из сил. Как же ты смеешь, Лёва? Очень плохо». И даже на него не смотрела, как вор не смотрит на фраера. А Лева что-то частил, бормотал, потом отходил от нее и облегченно вздыхал. Его боязнь старшей сестры поражала. Ни один лейтенант так не трепетал перед генералом, как Лева трепетал перед ней.
Однажды он меня взял к себе в гости.
Жили они в Померанцевом переулке. Там есть здание, где родился историк Соловьев, — бывшая гимназия, в которой сейчас Московский ИнЯз имени Мориса Тореза. Если пройти сквер перед ним, то можно найти угловое массивное темносерое здание. Оно выходит углом в сторону эстакады на конец Остоженки, и другой стороной — в Померанцев переулок. На шестом, кажется, этаже, в коммуналке, у них была комната. Лифт, грязная плохо освещенная площадка, длинный полутемный коридор с подвешенными по обеим сторонам велосипедами. Сейчас это как греза, образ из другого мира.
Мы проходим к комнате. В ней полумрак и пятна света. Мать лежит на софе, под ней подушки, она нам милостиво кивает: «Мальчики пришли… хорошо… как дела?». Отец — плешивый коротенький человечек, на локтях и коленках ползает по полу, где разложены на вырезанных из газеты лекалах куски размеченных мелом драповых элементов будущего пальто. Портной, после трудового дня в советском ателье за зарплату всю ночь работавший на заказы для клиентов, чтобы дать детям образование. Он не обращал на нас внимание, на шее у него висел сантиметр, а в зубах мелок, который он время от времени вынимал и что-то чертил. Где-то рядом ножницы, и он все ползал среди элементов своего ремесла.