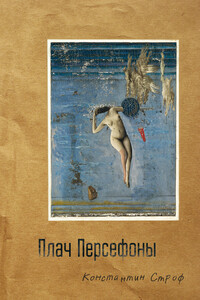И всё же дядя Лёня был интересный человек. По прошествии времени мне проще о нем говорить непредвзято, потому что острота противостояния между нами уже стерлась. Он был социальным психопатом, но в такой, может быть, немного «приглаженной» форме, — тем, что он прошел армейскую школу. Но там он тоже себя вел достаточно вызывающе. Много и жестоко дрался, будучи офицером.
Разошелся скандальный эпизод его службы, когда в часть, где служил дядя, приехал высокопоставленный генерал. Он стал обходить офицеров, построенных на плацу. Ветер, снег. Генерал шел и пожимал руки офицерам — те конечно же без перчаток, а он, генерал, конечно же в перчатке. Он свою руку в перчатке подавал офицерам, пожимавшим ее голой рукой. Он этого даже не замечал — нечто само собой разумеющееся.
Генерал дошел до моего дяди, который стоял с голыми руками, — тот демонстративно долго и очень тщательно надевал перчатку, застегнул ее и только после этого пожал руку генералу. Сцена без слов, пауза. Но что можно сделать Шаповалову? Дядя мог хамить сколько угодно — он был за каменной стеной своей фамилии, своего родства, — но отомстил за товарищей-офицеров.
Непростой был человек. У него установились плохие отношения с отцом и отвратительные отношения с матерью. Его мать, моя бабушка, сына не любила и откровенно ему в свое время сказала, что она его не хотела. Он вырос под влиянием этой травмы. Человек в прямом смысле нес травмы в себе с самого рождения.
Я видел фотографию его с дедом из дома отдыха Малого театра в Щелыково — год, наверное, 1947, дяде лет 15–16. Они завтракают в столовой. Фотография бледная и нечеткая, но видно, что подросток сильно озлоблен на мир, на свою вброшенность в это пространство.
Он стал более психопатичной, более женственной версией своего отца. Нос немножко уточкой, чуть-чуть вздернутый. Волосы не волнистые, как у моего деда, а кудрявые. Глаза карие. Подбородок не такой как у деда, выступающий твердой калошей, а более безвольный. Губы более женственные. Можно было бы сказать, что это лицо актера.
Дядя Лёня был социальным психопатом, потому что был деклассированным элементом. Он родился как деклассированный элемент, хотя и отец его, и мать были породистыми: каждый из них — по-своему ограненные камни. Не брильянты, но с огранкой. Получилось же в итоге что-то такое нервное и агрессивное.
Помню, как дядя пытался покончить с собой. Я тогда учился во втором классе — соответственно, примерно в 1955 году.
Это было так.
Я остался один дома с домработницей Машей. У нас в доме до этого эпизода было два больших встроенных стенных шкафа, забитых оружием. Среди прочего великолепная немецкая винтовка, малокалиберная, но сделанная очень качественно. Холодного оружия тоже хватало.
И вот я остался с Машей, и дядя появился. У нас был красивый бабушкин фамильный буфет красного дерева, и к нему золотой ключик с плетенной головкой. Бабушка любила фарфор, у нас была огромная коллекция. Ко всему прочему у нас стояли саксовские вазы. В одной из этих ваз на дне лежала горсть малокалиберных винтовочных патронов 5/56.
И вот он появился, волоча за собой винтовку за ствол, и спрашивает:
— Где ключ?
Маша достаёт ключ — Маша была верная старая домработница, состоявшая при моей бабушке еще с довоенных времен. У нее сын погиб на фронте, бабушка ее утешала, когда пришла похоронка. Она из деревни попала к бабушке и стала ее доверенной homemate, — морщинистая старушка, сохранившая свой ситцевый крестьянский облик.
Грозный голос дяди:
— Где ключ, старая?
Она говорит:
— Зачем тебе ключ? — а сама дрожащей рукой даёт его.
Он его берет у нее из рук. Маша пытается стать перед буфетом, на страшном своем инстинкте понимая, что что-то ужасное происходит.
— Уйди, старая.
Почему-то он к ней так обращался: «старая». Всё напоминало пьесу Островского.
— Не уйду, — ответила Маша и попыталась в него вцепится. Но он ее оттолкнул.
Хотя мне было лет семь-восемь, я сразу понял, что ему нужны патроны и что он будет стреляться. И думаю: «Ну и стреляйся, гад! Давно тебе пора уже освободить меня от своего присутствия!».
Дядя открывает буфет, берет патроны и возвращается через холл в свою комнату, которая раньше была моей детской, но он ее занял, когда вернулся из Новосибирска.