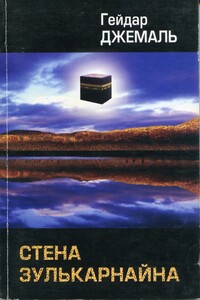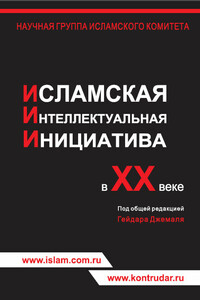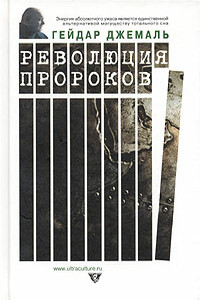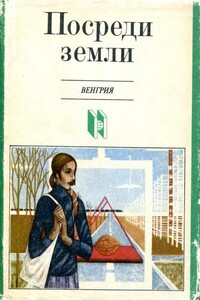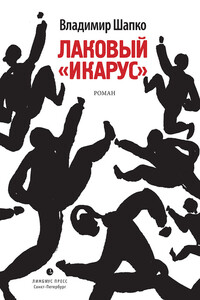А в исламе есть перманентный призыв, обращенный пророками, начиная с Адама, и во все времена, начиная с прихода Адама, люди могли присоединиться к «малому отряду». Этот момент был открыт, и вставшие на этот путь люди могли бороться с Бытием и с человечеством.
Есть разница.
Бог так возлюбил, по христианскому учению, человечество, что послал своего единородного сына спасти человечество, но тогда совершенно непонятно, почему, возлюбив его, он не спасает тех, кто был до этого послания.
Даже Платон и Аристотель, которых рисуют на иконах, оказываются в лимбе, они оказываются в чистилище, они не спасены, они лишь могут рассчитывать на то, что их рано или поздно выведут из Ада. А о людях попроще я и не говорю.
Тем более что если Платон и Аристотель — это «христиане до Христа», то тогда появляется много вопросов. Ведь они классические «ультраязычники». Платон и Аристотель не сказали ничего сверх того, что было уже у Лао-Цзы и Адвайта-ведантийских учителей. Если они — «христиане до Христа», тогда получается, что и Шанкарачарья, и Лао-Цзы — тоже «христиане до Христа». Чем они хуже Платона и Аристотеля? Тем что не попали в орбиту эллинизма — только и всего?
Возникало много странных вопросов, на которые ислам давал четкий и холодный ответ. В Коране ясно дано понять, что люди не являлись целью исторического процесса. Целью исторического процесса является решение некоего уравнения в замысле Всевышнего, где человек был просто «иксом» или «игреком».
Обращение к человеку с призывом встать на путь решало вопрос об истине — значение которой было совершенно вне человеческой судьбы, в том числе и духовной судьбы. Поэтому гибель человека в духовном плане, его осуждение или неосуждение, было скорее как кастинг актера, приглашенного на некую роль, и если он не проходил кастинг, его хлопали по плечу и говорили: «Старик, ты не подойдешь. Можешь идти гулять, у нас тут серьезный театр, мы тебя не берем».
В христианстве все крутилось вокруг человека как цели, ради которого всё затевалось. Но если творение и вообще весь мировой процесс был человекоцентричен, то остаётся очень много незавязанных концов. Если же человек был исключительно функционален и инструментален, то понятно, что все это можно было повторять до тех пор, пока не появится правильное сочетание условий, и до тех пор, пока не будет решен этот момент, когда красная черта перейдена, останавливается вращение колеса, совершенно четко блокируется повтор циклов, вечное возвращение равного. И не возникает переход к совершенно другой реальности, в которой все становится правильно, черное становится белым, белое черным, а истина проявляется в том, что она обнажается, как отсутствующая в этой чаше, чаше данности, чаше данного.
Такие соображения посещали меня именно в тот период, 1972-73 годы, но они продолжали тему, которая для меня была параллельна актуальной и ранее, — эта тема шла подспудно с Гегелем. Тема подлинного содержания реальности, подлинного смысла реальности, которая обязательно должна нести некую апористическую направленность. Реальность обязательно должна была в себе содержать некую безвыходность, тупиковость, абсолютный алогизм, который бы решался через взрыв, через некий скачок в сторону.
Апория не была моим рабочим термином в те времена, да и диалектика «испорчена» марксизмом, отвергавшимся как официальная система мысли. Но конечно и апория, и диалектика были тем, что уже тогда в какой-то степени подразумевалось. Апория как безвыходность. Я нащупывал у разных авторов подозрение, что реальность устроена по принципу апории. Сама реальность есть ловушка и безвыходность, но в ней содержится парадоксальный прорыв, слом, возможность избежания.
Даже у таких неоспиритуалистических авторов, к которым дисциплина генонизма относилась подозрительно и дистанцированно, вроде Гурджиева, даже и у таких авторов присутствовал довольно сильный намек на то, что реальность сформулирована и организована как ловушка, и побег из этой ловушки, из этой тюрьмы невозможен. Возможен побег лишь в тюрьму чуть побольше, но все-таки побег за счет некой непредусмотренной щели или случайно не запертой двери, или, скажем, случайно заснувшего пьяного солдата-караульщика.