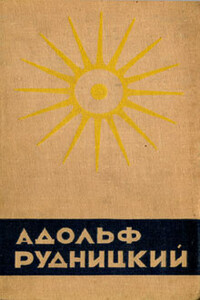И я уехал. На два часа я задержался в Турине, на четыре в Шамбери и наконец приехал в Гренобль. Здесь, в пансионе, куда Эрнесто ходил обедать, он сразу познакомил меня с ребятами, итальянцами, его сверстниками, которые находились в таком же положении, что и он. Все они учились в Политехническом: Леви из Турина, Сегре из Салуццо, Сорани из Триеста, Кантони из Мантуи, Кастельнуово из Флоренции, девушка по фамилии Пинкерле из Рима. В течение тех двух недель, что я провел в Гренобле, я не столько общался с ними, сколько сидел в муниципальной библиотеке и изучал рукописи Стендаля. В Гренобле было холодно, шел дождь. Вершины гор, вздымавшиеся над городом, часто были скрыты туманом и облаками, и по вечерам не хотелось выходить. Феррара казалась мне очень далекой. А Миколь? С тех пор как я уехал, у меня все время звучал в ушах ее голос: «Зачем ты так? Ведь все бесполезно». Однажды все же кое-что произошло. Мне случилось прочитать в одной из записных книжек Стендаля слова: «All lost, nothing lost»[11], и вдруг, чудом, я почувствовал себя свободным, словно выздоровевшим после тяжелой болезни. Я взял открытку с видом, написал на ней эти слова Стендаля и послал Миколь без привета, без подписи, пусть думает, что захочет. Все потеряно, ничего не потеряно. Как это правильно! Я повторял это про себя и дышал полной грудью.
Но я заблуждался, понятное дело. Вернувшись в Италию в начале мая, я увидел, что там уже совсем весна, луга между Александрией и Пьяченцей пестрели желтыми пятнами, по сельским дорогам в Эмилии разъезжали на велосипедах девушки в платьях с короткими рукавами, старые деревья на городских стенах Феррары оделись листвой. Я приехал в воскресенье, в середине дня. Вернувшись домой, я принял ванну, пообедал со всеми, терпеливо ответил на множество вопросов. Но неожиданное желание, которое овладело мной, как только я, еще из поезда, увидел на горизонте башни и колокольни Феррары, толкало меня вперед. В половине третьего, не осмелившись позвонить, я уже ехал на велосипеде вдоль стены Ангелов, не сводя глаз с живой изгороди «Лодочки герцога», которая быстро приближалась. Все снова вернулось, стало таким, как прежде, как будто эти две недели я проспал.
Они играли на теннисном корте. Миколь против молодого человека в белых брюках, в котором мне нетрудно было узнать Малнате; меня быстро заметили и узнали, оба перестали играть и стали делать мне руками и поднятыми ракетками приветственные жесты. Они были не одни, там был и Альберто. Присмотревшись через листву, я увидел, как он выбежал на середину поля, посмотрел на меня, поднес руки ко рту. Он свистнул два-три раза. Казалось, он спрашивал, что я там делаю, на стене. Почему бы мне не спуститься в сад — что, мне нужно особое приглашение? Я поехал к воротам на проспекте Эрколе I, вдоль ограды и все слышал свист Альберто. Теперь мне казалось, что он говорит: «Смотри не сбеги!» Свист — так мне казалось — становился все более добродушным и в то же время каким-то предостерегающим.
— Привет! — закричал я, как всегда выезжая из-под свода вьющихся роз.
Миколь и Малнате снова играли, не прекращая игры, они ответили хором:
— Привет!
Альберто встал и пошел мне навстречу.
— Можно узнать, где ты пропадал все эти дни? — спросил он. — Я звонил несколько раз тебе домой, но тебя все не было.
— Он был во Франции, — ответила за меня Миколь с корта.
— Во Франции? Зачем? — воскликнул Альберто с удивлением, которое показалось мне совершенно искренним.
— Я ездил в Гренобль, к брату.
— Ах да, правда, твой брат учится в Гренобле. Ну как он там? Все в порядке?
Мы сели в шезлонги, стоявшие возле бокового входа на корт, оттуда прекрасно можно было наблюдать за игрой. В отличие от прошлой осени, на Миколь были не шорты, а белая льняная юбка в складку, очень старомодная, блузка тоже белая, с завернутыми рукавами и необычные высокие носки, очень белые, почти как у сестер из Красного Креста. Она была разгоряченная, красная, яростно отбивала мячи в самых дальних углах корта, форсируя удар, но располневший Малнате, хотя и запыхался, отбивался достойно.