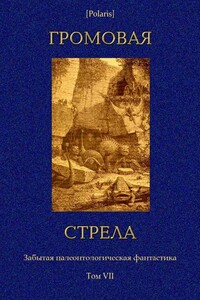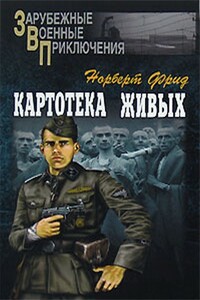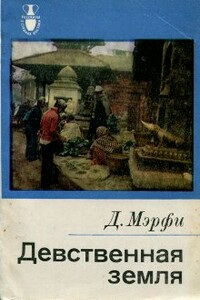Какова же сама мелодия? Арабеска, нарисованная одной линией, лента, укрепленная на конце палочки китайского фокусника, создают свое собственное пространство, связанное лишь с самим собой, созвучное лишь собственному изгибу, созданному за секунду до того и сохранившемуся в нашей зрительной или слуховой памяти, — музыка волнующая, своеобразная, способная надолго приковывать наше внимание, хотя и мало напоминающая то, что мы привыкли называть музыкой.
Райс Чан все так же бледен, сосредоточен, поглощен создаваемым им самим музыкальным строем. Он меняет длину струн, оттягивает их в сторону от точного порожка ладов, скользит на грани между потами, извлекает из струн все, что они могут дать, не лопнув, заставляет звук извиваться в полете, дует ему под крылья и снова позволяет мелодии ускользнуть и раствориться в бесконечности.
Странное наслаждение чувствуешь, слушая чужую музыку, даже если она, как все чужое, не сразу, нелегко усваивается. Поэтому не удивительно, что кое-кто из нас с облегчением вздохнул, когда Райс Чан спустя полчаса, закончив игру и впервые улыбнувшись, благодарил за аплодисменты.
Затем наступил черед Европы. В ответ на индийский концерт за рояль сел наш дирижер, ударил сразу всеми десятью пальцами по клавишам, и впервые за весь вечер прозвучал аккорд. Трезвучия нагромождались на трезвучия, все было полно буйных красок, медвяного аромата чешских лугов и рощ. Этот музыкант тоже импровизировал, но его музыка была проникнута стихийной романтикой полных любви воспоминаний. Он снова и снова погружался в пучину Сметаны и явно не мог насытиться этим…
На этот раз наши хозяева слушали так, как до того слушали мы. Одни с искренним интересом, другие с облегчением вздохнули, когда прекратилась игра.
Дамаянти Джоши владела своим телом так же искусно, как владел пальцами Райс Чан. Это была великолепная танцовщица. Сначала мы установили, что она красива, по-настоящему обольстительна. На ней была скромная шелковая одежда, расшитая золотом, конец длинной юбки продернут между ногами. На груди было повязано кружево — иногда это производит такое впечатление, будто индийские танцовщицы носят бюстгальтеры поверх одежды.
Дамаянти показала нам классический танец, созданный, очевидно, еще в те времена, когда мужчины были мужчинами, и ничто не могло становиться вровень с ними. Она превратилась в драгоценность, в нечто безмерно желанное, но не могущее существовать само по себе. Она пристально смотрела вперед, не на кого-нибудь определенного и все же так, что у каждого мужчины создавалось впечатление, будто именно его она избрала своим защитником. Дамаянти сверкала зубками, слегка покачивала бедрами, смеялась глазами, звенела браслетами на щиколотках. Вот она взмахнула руками, и вокруг стала извиваться гирлянда из мужских сердец, нанизанных одно за другим, — Дамаянти могла делать с ними, что ей вздумается.
Танцевала своенравная знатная дама, и все-таки мужчины не робели перед нею. Это была только выполненная с величайшим искусством марионетка, которую для отрады господина наделили жизнью. Ее вариации на одну и ту же тему длились без конца, были прихотливы, сложны, продолжались так долго, что шея i лицовщицы покрылась потом.
Танец покорил всех нас, на этот раз даже тех, чей слух вообще склонен воспринимать лишь европейские мелодии. Девушки были увлечены так же, как юноши, хотя танец предназначался для воздействия главным образом на чувства мужчин. Для всех важно было как, а уж во вторую очередь что она танцевала. И мы бешено аплодировали.
Дамаянти благодарила, сложив руки, и по ступенькам спустилась с подмостков прямо к нам. Оказалось, но она маленькая и хрупкая, хотя на сцене держались уверенно и производила впечатление хорошо вылепленной статуи. Ко всему она во время разговора еще надела очки, чтобы лучше видеть своих собеседников.
Нарушила ли она иллюзию? Наоборот. Уважение и восторг лишь возросли: они обогатились умилением перед бренной человеческой оболочкой, способной подняться на такую высоту. Благодаря искусству человек подымается над самим собой. Бледный Райс Чап выразил эту истину при помощи струн, хрупкая Дамаянти Джоши — движениями своего тела. Оба они лишь слегка поколебали воздух; доиграли и дотанцевали, и, казалось бы, ничего не осталось — публика разошлась и обыденная жизнь продолжается по-прежнему. Но совсем ли по-прежнему?