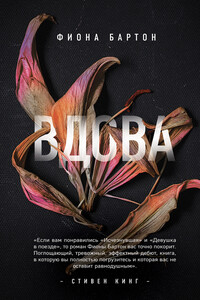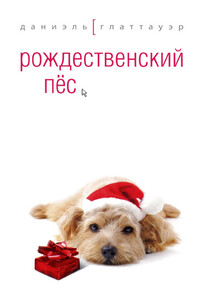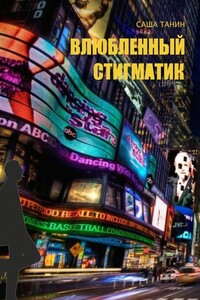Это слово «да» (йа), которого не выдерживает и половина браков, подвержено капризам моды. С послевоенным «яволь» мы уже можем распрощаться. Через каждые несколько лет Австрия сползает в прискорбную фазу «йес». (Одно время даже говорили «йессер»). В конце девяностых «йа» окончательно растеряло свое воодушевление. И тут возникло ужасное «йеп», продукт поколения супер-гутл-чусси.
После недавнего передвижения согласных звуков мы остановились на «йоп». Кто сейчас не говорит «йоп» вместо «йа», тот совершенно выпал из контекста. И даже нет никакой причины сожалеть об этом. Яволь.
Здесь снова – защита повторения. Оно кормит журналистику. В литературе это одно из живых средств стиля. И оно облегчает человеку старение: чем больше весен живешь на свете, тем лучше знаешь, как хорошо они пахнут. Это с каждым годом усиливает тоску по весне. Но одно все же вызывает обеспокоенность: повторение встречается чаще. Оно становится въедливее. Поскольку неповторимое, кажется, исчерпалось, подгонка ценности достигается через постоянное повторение – и так рождается важность. Например, во время телевизионного рекламного блока нам приходится смотреть один и тот же ролик по три раза. Скоро все другие продукты будут отбракованы из-за конкуренции фирм. И у нас останется одна-единственная марка, которая будет рекламироваться без перерыва 24 часа в сутки – может, то будут конторские скрепки, или газетный концерн «Медиапринт», или обезжиренный смальц, неважно, нам больше не придется его выбирать.
Но поскольку повторение пока что держится под контролем, мы сделаем маленький шаг: пожалуйста, больше не говорите «йоп» вместо «йа». Перестаньте каждый час говорить: «Годится!» И каждый день: «Роджер»[63]. И никогда больше «Оки-доки». Можно это устроить?
Когда Тереза Л., бывшая учительница, а ныне пенсионерка, несколько дней назад шла домой из магазина в венском Марияхильфе, она хватилась своей сумочки. У нее тут же возникло подозрение, «за которое теперь мне стыдно», пишет она нам. На остановке «Западный вокзал» она покупала у одного торговца «Августинами» газету. И там ненадолго отставила сумки в сторону. И тут кто-то из стоящих вокруг, наркоман какой-нибудь, изловчился.
В шесть часов она сделала заявление о пропаже. Не прошло и пяти минут, как в домофон позвонил мужчина с французским акцентом. Он утверждал, что нашел ее сумку в подземном переходе. Ее адрес был указан в пенсионном удостоверении. Она спустилась к двери дома, и там состоялась передача. Содержимое сумки было в целости и сохранности, и в кошельке все было на месте. Тереза Л. хотела отблагодарить мужчину купюрой в 20 евро за «более чем необычайный акт помощи». Но тот не взял деньги. «Там, откуда я родом, это в порядке вещей», – сказал он ей. И откуда же он оказался родом? Из Нигерии.
«Я думаю, моя история подойдет для «Стандарта»[64], – пишет нам пенсионерка. Подойдет. Но и в «Короне» она тоже смотрелась бы неплохо.
Недавно в венском трамвае № 58 в девять часов утра случилось удивительное. Из шести пассажиров четверо были погружены в книгу. Это вносит путаницу в статистику, согласно которой каждый пятый австриец в год не читает ни одной книги, а каждый третий самое большее – две. (Зато каждый второй журналист пишет одну.)
На заднем сиденье трамвая № 58 сидел и читал подросток, в глазах у него мелькали НЛО, а рот был широко раскрыт. Должно быть, шаттлы так и бороздили космос своими одиссеями. Пожилая дама впереди принадлежала к фракции «Донны Леон»[65]. Углубившись в книгу, она демонстрировала проницательность конторской служащей у окошечка, вышедшей на пенсию, и должна была рано или поздно разгадать преступление. Наискосок напротив «профессор» предавался какой-то науке – возможно, своей собственной. Непосредственно рядом со мной «студентка», обняв колени и уткнувшись в них подбородком, проглатывала строки детективного романа, прислоненного к спинке переднего сиденья.
В кино нам нравится видеть спящих детей. При взгляде на них смягчается даже сердце закоренелого злодея. Но кто-нибудь замечал, как привлекательны бывают люди, когда читают книги?