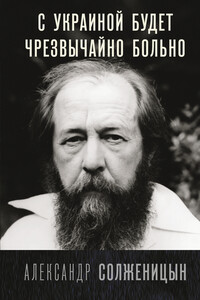Как эти наследники, петербургская династия, во многом бесцельно изматывали народные силы — я уже разбирал в другой статье («"Русский вопрос" к концу XX века», 1994). И горько общеизвестно, как династия и дворянство по меньшей мере на столетие эгоистически затянули крепостное состояние большой доли русского крестьянства, вот тем самым смирением его и пользуясь.
А когда, после этой вековой затяжки, освободительную реформу возвестили — она была робка, не дала крестьянам довольно земли, да и ту с оплатой, хоть и растянутой, была недальновидна и незаботлива в том, как облегчить крестьянству и экономически, и общественно, и нравственно это огромное переходное сотрясение. Оно и не замедлило сказаться на метаниях народного характера, не могшего легко вжиться в новую систему отношений, тот ошеломительный «удар рублём» (Глеб Успенский). Какие-то слои народа — о, ещё далеко не все — были затронуты разломом быта, нравственной порчей, вспышками озорства и растущим размахом пьянства. Этот развал отражён у многих наших писателей и кроме Успенского. В 1891 К. Леонтьев писал: «Народ наш пьян, лжив, нечестен и успел уже привыкнуть, в течение 30 лет, к ненужному своеволию и вредным претензиям». И предсказывал: если так пойдёт и дальше — русский народ «через какие-нибудь полвека… из "народа-богоносца" станет мало-помалу, и сам того не замечая, "народом-богоборцем"». Предсказание его исполнилось опередительно…
Картину народного пьянства начала XX века мы находим в «Нашем преступлении» Ивана Родионова. Читаешь — кажется: бескрайней и мрачней не может быть падения нравов — а ведь ещё главный разлив впереди весь… Там же встречаем (1910) и: «Господ бы всех передушить, а землю и добро разделить», «бить всех господ!». (Там же — и расслабленность суда, последствие ещё одной александровской реформы.)
Генерал Деникин, имевший долголетний опыт с русскими солдатами, свидетельствовал: «Религиозность пошатнулась к началу XX века. Народ терял облик христианский, попадал под утробные материальные интересы и в них начинал видеть смысл жизни». (Это отмечают многие.) И он же: «Тёмный народ не понимал задачу национальной, государственной самозащиты», — то, что при отступлении 1915 года звучало: «до нас, саратовских, немец не дойдёт».
В 1905 новонаросшая озлобленность сказалась в поджогах и разгромах помещичьих имений, но сама попытка революции 1905 и её революционно-уголовный слив 1906, твёрдо пресеченный Столыпиным, не задели глубины народных масс и не добавили крутой ломки народного характера.
Даже и в 1917 американский Сенат («Овермэнская комиссия») слышит от протестантского пастора Саймонса, пожившего среди русских несколько последних лет: «Я нигде не встречал лучшего типа женщин или мужчин, чем в русских деревнях и даже в среде рабочих. И я всегда чувствовал себя среди них в полной безопасности до тех пор, пока не пришли к власти эти большевики»[80].
Внезапные опасные переходы русского характера отмечались многими. Ещё елизаветинский канцлер А.П. Бестужев-Рюмин писал: «Русский народ по первому толчку в состоянии что-нибудь предпринять, но потом, когда эта минута пройдёт, переходит к совершенному послушанию». Тот же М. Палеолог, перед самой революцией, заключал: «Слишком легко инстинкт со вспышками берёт у них верх над ровным светом разума, они с лёгкостью отдаются стихии. Эти толчки во внезапное разнуздание инстинктов меняют русский характер до неузнаваемости». Весьма утвердилось, — и в русской письменности, тут и усеченная, затасканная фраза из Пушкина, — представление о бескрайности и несравнимой ярости русских бунтовских взрывов. Может быть, это — и по резкому контрасту перехода от беспредельного русского терпения. Однако действия вообще всяких революционных толп, так тонко и разносторонне проанализированные известным психологом Густавом Ле Боном, дают общие характеристики, вовсе не зависящие от национальности толпы, от расы, от темперамента. И разрушительность, и ярость проявлений — в Российскую революцию нисколько не ярей и не жесточе, чем во Французскую революцию или в испанскую гражданскую войну (1936-39). Иван Солоневич довольно справедливо возражает, что русские бунтарские выступления, в Смуту или в пугачёвщину, — были отнюдь не анархичны, не «бессмысленны», — «они шли под знаменем легитимной монархии», веря или обманывая себя, что идут устанавливать власть хорошего монарха.