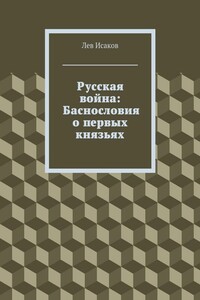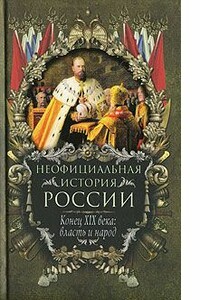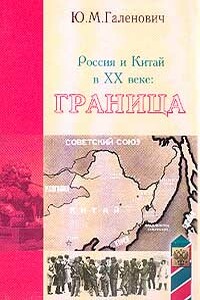– Правитель прекрасный – Тиран ужасный!..
Да, за 5 лет Павел размотал громадные екатерининские капиталы в политической мощи государства, непобедимости армий, в людях воистину исполинской вскидки, сделавших эпоху до 1812 года – на медные пятаки не сложившихся метаний: но тем более заслуживает при такой проницательности ее высокая оценка Александра, кроме всего прочего сызмальства тренируемого как машину государственного человека, который всегда бодр, светел, с кем ничего не случается – и обмороки, и отказы от власти!? Говорите, изувеченное тело? На Аустерлицких полях впервые увидев тысячи этих тел, положенных по его несомненной вине – он не дрогнул:
– Я виноват, но я был молод тогда, Кутузов должен был меня остановить…
Гр. Лев Николаевич Толстой пытался соединить Александра I с Россией через русскую слабость – налицо другое, всю жизнь до последнего часа, доступного нашим наблюдениям Александр являл не слушливую других силу, выталкивавшую из своего окружения не только много говоривших, но и заметно молчащих; обращающую ум и глупость, привлекательность и безобразие в одну тянущуюся искательность, в одно истончающееся компаньонство, в разных его оттенках, от великобарского до холопского. Это была сила в своем роде роковая, подхватывающая самое нижнее и угнетавшая, подавлявшая самое верхнее: Александр открыл эпоху 20-летних полковников, 25-летних генералов, но кто были его фельдмаршалы? Сходящие на нет быки екатерининского царствования – взлетавших стремительно, из штаб– и обер-офицеров – Ермоловых, Воронцовых, Кутайсовых, Каменских – юных генералов вдруг обметала и впаивала в неподвижность ледяная стужа, исходившая от императора; и не Русский Фельдмаршал вводил Русскую Армию в Париж – храбрый пруссак Гебхардт-Леберехт Блюхер, командующий соединенными русско-прусскими армиями, возведенный на этот пост после М. И. Кутузова волей русского императора, не допускавшего, чтобы кто-нибудь из русских военачальников, даже скромнейший М. Б. Барклай-де Толли, обронил тень на него.
Слишком сильны, страшны, зримы должны были явиться впечатления той ночи, чтобы поколебать эгоцентризм такой цельной отливки, бесчувственно-равнодушный ко всему внешнему, не своеличному, будь то Наполеон или Балашов, брат Константин или Брат Николай – личная трагедия императора Александра, это трагедия органического одиночества эгоцентриста в мире, в которой виновная сторона всегда мир, свертывающийся до монастырской кельи, ночлежки или пистолетной пули.
В трагедии Александра много христианского элемента – ровно настолько, как в трагедии Христа, попирающего мир восхождением на Голгофу и восходящие ступени этого восхождения попирают преждебывших и кладут вину на них. Граф Пален ежегодно впадал в иступленное состояние и мертвецки напивался в канун 11 марта; Скарятин и Талызин умерли в расцвете сил через год полтора; Аргамаков страшными намеками оправдывался за участие в цареубийстве; Мария Федоровна всю жизнь хранила окровавленные простыни с постели мужа; Зубовы надломились и утратились исторически.
Когда Александр I умрет, только один человек-пес будет оплакивать его надрывно и искренне, всю жизнь тянувшийся к своим кумирам Павлу и Александру, страшно ненавидимый всеми Александр Андреевич Аракчеев, как-то все же более пристрастный к Александру, может быть по чувству той же всемирнобезысходной обреченности, уже иного свойства, органически ущербной натуры, не способной к рождению ни приязни, ни детей.
Не вид убитого, картина тела, более выразительного чем в прозекторской – а в порядке воспитания «естественного человека» наследника престола в детстве водили и в анатомический кабинет – но от того и более живого, еще не обратившегося в смерть – сама картина убийства и могла только его потрясти на несколько чудовищно тяжелых часов, которые сами потом и оправдали – я расплатился большей ценой, чем он… – и кажется последнее не вполне ложно.
Со страшным человеком вступал в соперничество Наполеон со своими переживаниями кровавых лохмотьев человечины паперти церкви Св. Роха и расстрелом военнопленных на пляжах крепости Сен-Жан-д’Акр в отношении этой ночи… Но и не столь великим, как полагала бабка Екатерина: истинно великое в момент своего появления скорее непостижимо даже самым проницательным людям – Екатерина Великая любила внука вследствие своего понимания, т. е. обозрения сверху-вниз… В то же время намечавшийся и завещанный ей гигантский поворот был выше доступности и ее сравнений – он и для нее еще чертился не в сознании, а в интуиции предчувствий – по своей значимости он требовал исполинской фигуры, сопоставимой Александру Невскому или Петру Великому, а лег на плечи Павла I, Александра I, Николая I… Первые ученики редко реализуются.