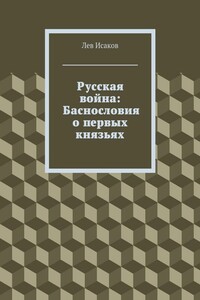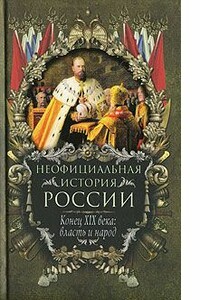О чем-то подобном замышляли Екатерина II и ее последний конфидент Валериан Зубов: что-то подобное полагал М. И. Кутузов, в 1812 году враждебный к англичанам едва ли не более чем к французам; в 1814 году об этом задумывается А. П. Ермолов и предлагает Александру I.
– А теперь через правое плечо из Европы – Шагом Марш! – как, впрочем, в проблесках своего сумеречного сознания и Павел I, учредивший Русско-Американскую кампанию и погнав Платова походом «на реку Индус», а на Балканском фланге утвердивший Республику Ионических Островов и обратив переведенный туда флот из Черноморского в Средиземноморский – к чести этого чудачливого правителя следует признать его инстинктивное понимание глобального значения флота, обращающего в прибыток государства 2/3 земного шара одной демонстрацией флага; высшим военным званием для себя Павел почитал морского «генерал-адмирала», в обеспечение чего проводя выслуживших его адмиралов по сухопутному ведомству, производством в «генерал-фельдмаршалы», как то случилось с Логгиным Кутузовым.
С Зубовыми отбрасывались не конкретные пути и цели политики – ее басовитая, великодержавная нота, разменивалось громадно-перспективное на зримо-копеечное. Высказав в 1796 году меланхолическое желание жить частным лицом на Рейне – вероятно, с титулом ландграфа Гессенского; и не в возможности осуществить его, Александр начинает обращать русскую политику в разряд германского подглядывания через дырку в заборе на упреждение оплеух. Одним отказом принять короля Камеамеа II в 1816 году в русское подданство вместе с Гавайскими островами Лысый Ангел разрушил редчайшую возможность утвердить исходно-русское господство на Тихом океане, т. е. У вод мира, для цивилизации, политики, торговли, взаимодействия народов более значимого, чем все сухопутные потуги «глуховатого философа».
Отодвигая достижения и провалы Александровской политики и оценивая только ее характер, сразу можно заметить ее разительную особенность – в ней нет ни одного творческого акта, они либо завещаны предшественниками, или навязаны ситуацией и внешней волей; если справедлива оценка поднятого им графа Нессельроде «австрийский министр русских иностранных дел», то ее следовало бы понимать расширительно – русская политика была в большей степени плодом Наполеона, Меттерниха, Питта-младшего, Каннинга и Кэслри, чем русского императора; впрочем, весьма способного в ее нетворчески-прикладной сфере.
Зубовы – это не расцвет Екатерининского века, его нисхождение, может быть временное, кажущееся, перегруппировка перед прыжком; эта драматическая напряженность присутствует в последних действиях Великой, поддержанная наличием А. Суворова, Н. Репнина, М. Кутузова, Ф. Ушакова, С. Воронцова – но Зубовы из ее великолепного гнезда, соотносить их с крохобором – поповичем М. Сперанским, их унижать; это всё то же «размашисто-княжеское» в политике, когда правит бал вдохновение и артистизм Екатерины и Взлетевших Орлов, а канцелярщина и усидчивость аппарата канцлера Безбородко только их обслуживает; но это и последний этап «барства политического» – полупопытка Александра I сохранить его в «Негласном комитете» провалилась с треском, великодержавность и дряблость воли оказались несовместимы; начинается эра поглощения канцелярией политики, обращение художественно-творческого в чиновничье-исполнительское. «Политика – искусство возможного (О. Бисмарк)» – уже при Александре утрачивает ориентир верхнего предела; при Николае I замирает на отметке наличного; при его преемниках покатится вниз – «как там у них в Европах скажется».
Зубовы, как администраторы деятельные, а не присутствующие, начальники властительные а не предписывающие – в чем-то их более повторяет ненавидимый Аракчеев, создавший тем не менее в канун 1812 года сильнейшую русскую артиллерию и выдвинувший в бытность генерал-фельдцейхмейстером и военным министром Барклая-де-Толли, Кутайсова, Ермолова; и отнюдь не ласкаемый публицистикой Сперанский, высшим итогом деятельности которого явилось издание Свода Законов Российской Империи – ни к «честным псам», ни к «поповичам» сведены быть не могут. В Фамусовском Сановнике, валявшем дурака на куртаге, проглядели одну черту – тварь перед государыней, он был государем по своему ведомству, уже не балаганному, а державному, а где рождается и возрастает политик – в реальности власти или в словоблудии ее отстраненного поучения, так сказать, в «чистоте рук своих»? На этот вопрос отвечает не риторика, а историческая практика: из «поползающих царедворцев» выросли Петр Толстой, Борис Куракин, Михаил Кутузов; негодуя, в конфликте, смогли реализоваться Никита Панин и Семен Воронцов – они, «бары в своих вотчинах», не хотели бы только «барства над собой», этого не стало – но и вместе с вотчинами.