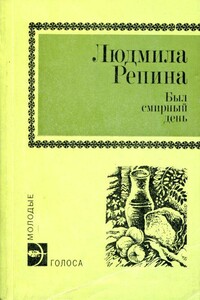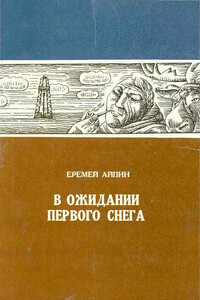Это было год назад. В ту весну он впервые сам пахал. И солнце было нестерпимое, и вел он полосу ровно и добротно, как бывалый пахарь. И когда шел с поля чумазый и усталый, Варька, стоя у калитки конторы, улыбалась ему и восторженно встряхивала челкой. Наверное, она и вслед ему смотрела. А он, небрежно закурив папиросу, тяжело и спокойно шел к своему дому, не оглядываясь по пустякам, и сердце прыгало от какой-то беспричинной радости, и ему нравилось, как гудела спина, и голова чуть кружилась от усталости, и все было так хорошо, так хорошо, как, наверное, никогда уж не будет. Варька тогда ходила по его пятам. Он всем говорил, что плевать на нее хотел, что связываться неохота, что если будет свободное время и настроение, то можно и воспользоваться, не уродина небось.
Женился внезапно. Вроде по любви. Евгения выросла в соседней деревне. Попровожал ее месяц с чем-то… Целовались. Тосковали друг о друге. Мечтали. А Варька все под ноги лезла. Куда они, туда и она. Даже на танцы бегала в деревню Евгении, хоть и дорога далека, и никто из девок не соглашался ей компанию составить. Ни насмешки, ни разговоры нипочем, словно ненормальная какая. Варька ему тоже нравилась, но не так сильно, как Евгения. Варя больше злила. В декабре была свадьба. В декабре начались метели. В декабре Варька ходила с зареванными глазами. Потом ему было немного хорошо, потом сразу же немного скучно. Тогда же дружок Николка высказал впервые:
— Успокоил бы Варьку-то. Чего тебе стоит? Мужик ты или нет?
— А жена?
— Жена — это одно, а тут другое. Не путай, брат…
— Не учи.
— Везет тебе.
— Мне всегда везет.
Вот вроде и все разговоры. Но мысль о Варьке часто лезла в голову. Лезла от скуки. Сама Варька была ни при чем. «На ее месте могла бы быть и другая. Но эта будет податливей. Сама набивается. Мужик я или не мужик? Сама набивается».
И начал он перемигиваться с Варькой, это смущало ее до слез. Но на большее он не отважился. Потом началась дурацкая переписка. Никогда он столько много не писал. Ему вроде и самому нравилось, душу бередило. Ручку купил, чтобы разным цветом писала: где красным, где синим. Некоторые предложения из книжек выписывал, но больше сочинял сам. Такое иногда придумывалось, что хоть посылай куда-нибудь на печатанье. Почтарем был Николка, парень верный и не болтун.
Варькины письма он хранил в гараже под ящиком с запчастями и всякой ерундой. Там же лежали и открытки с нагими женщинами. Но открытки уже давно кто-то спер, а письма не тронули. Варьке же он наказывал его послания жечь, больше месяца не хранить, и в конце всегда такую приписку делал. Жгла она письма или нет, про это он не знал.
В письмах он выдумывал ее, выдумывал и себя. Это была совершенно другая жизнь. Варька ему снилась красавицей с черными волосами, ожившей русалкой из Вятки, но чаще царевной-лебедью, а он был царевичем. Это была с детства его любимая сказка, больше он никаких и вспомнить не мог. Целыми днями возился с трактором и нашептывал необыкновенные слова, подгонял гайки и придумывал необычайные встречи на краю заречного болота. Он до того стал рассеян, что не замечал ничего вокруг, он даже перестал выпивать с дружками и невнимательно слушал анекдоты в гараже, не знал, в котором месте смеяться.
Он до того одурел, что не замечал даже саму Варьку, проходил мимо нее. Он как-то забывал, что пишет ей, что это она отвечает ему письмами не менее нежными и необыкновенными… А Варька рдела при встрече, оглядывалась пугливо и ценила его хладнокровие и силу воли — он умел хранить тайны. И она жалостливо обходила Евгению стороной, боялась проболтаться и выдать себя каким-нибудь пустяком.
А он все, все перепутал. Он совсем и не вспоминал о Варьке. Он назначил письменно свидание своей царевне ночью, за селом, чтобы хоть одним глазком взглянуть на нее. Это было как раз после Нового года. Нового года этой бесконечной зимы. И лунная же была ночь. Такая лунная, что снега сверкали синим и зеленым. А подсосного стояла… Он как увидел, сердце екнуло, он почти задохнулся: «Она. Это она. Так вот она какая, моя лебедь…» Он верил, что видел ее впервые. Если бы кто-нибудь ему сказал: «Да это же Варька!», он избил бы этого лжеца от возмущения и ярости. Вот тогда началось это затмение, затмение его жизни, его сознания. Он остановился в трех шагах от сосны и молчал. Она тоже молчала, лишь темнели ее глаза. Белая с кистями шаль легко летела по ветру, плечи белы от снега. Она нагнула сосновую ветку и заслонила лицо. С черных иголок посыпалось серебро, и он зажмурился. Наверное, долго так стоял. Когда очнулся, ее уже не было, вернее, она была, но где-то далеко вдали по полю плыло что-то. Облако белое. И ее следочки. «Улетела, значит». Окоченевшими пальцами стал доставать папиросы.