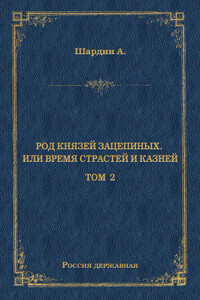С этими словами доктор встал. Цесаревна протянула ему руку. Он почтительно поцеловал ее, потом прибавил спокойным голосом:
– Примите же эти капли на ночь, ложась в постель. Может, даст Бог, сон ваш и не будет нарушаться бесплодными волнениями. Завтра я буду у вас и поговорим. Будьте здоровы, цесаревна, да хранит вас Бог!
– Благодарю! Благодарю! – И она снова протянула ему руку, которую Лесток снова с чувством поцеловал и вышел. Выйдя от нее, он отправился по залам дворца на камер-юнкерскую половину.
В довольно большой комнате нижнего этажа, выходящей окнами в сад, находились трое молодых людей. Воронцов, Шувалов и Балк. Это были камер-юнкеры цесаревны Елизаветы. Когда Лесток вошел, Воронцов рисовал какую-то виньетку, Шувалов большими шагами расхаживал по комнате, а Балк уселся с ногами на подоконник и смотрел в окно.
– Здравствуйте, милейшие птенцы! – сказал Лесток, входя. – Что вы опять засели в свою клетку, так что можно всех разом сеткой накрыть! А отец командир где?
– А, доктор! – радостно приветствовали вошедшего молодые люди. – Вот обрадовали нежданно! А про командира, тс! Не велено сказывать! Поехал на могилу Волынского панихиду отслужить. – Речь шла о гофмейстере цесаревны Семене Кирилловиче Нарышкине, доводившемся покойной жене Волынского недальней родней и, разумеется, знавшем сожаление о нем цесаревны.
– Мне нужно поговорить с вами, доктор, – сказал Балк.
– И я хотел с вами посоветоваться кое о чем, – проговорил Шувалов.
Только Воронцов к своему приветствию не прибавил ничего, занятый работой.
– Очень, очень обрадовали!
Лесток подошел к Воронцову, взглянул на рисунок и спросил:
– Что ж это будет?
– Фронтиспис, виньетка к моим стихам.
– А вы и в стихотворстве упражняетесь? Похвально, очень похвально, молодой человек! – сказал Лесток. – Какие же это стихи?
– Стихи-то, признаться, написал не я, а Третьяковский. Я ему за то два червонца заплатил, а я только перепишу и поднесу.
– А, Третьяковский! Ну это великий пиит, нельзя ли прочитать? Кому же заготовляется такой драгоценный подарок вашей собственной благородной рукой?
– Ах!
– Что «ах»?
– К несчастию, благородная рука эта очень неискусна и очень неловка, чтобы остановить на себе внимание прелестной Цирцеи.
– Унижение паче гордости! Ну скажите, мой друг, я надеюсь, вы не думаете, что ваш старый приятель может в чем-нибудь вам изменить? Скажите. Впрочем, я думаю, что я и сам угадал, подразумевая под именем Цирцеи нашу общую очаровательницу и покровительницу?
– Не ломайте головы, доктор, не в ту сторону гнете! – сказал Балк. – Очаровательная Цирцея Михайлы Ларионовича не кто другой, как Анюточка Скавронская.
– Анюта Скавронская, – повторил доктор. – А может быть, ее очаровательная тетушка?
– Не смейтесь, доктор! – ответил Воронцов. – Разве я смею бросить дерзкий взгляд свой на дочь Петра Великого? Нет! Я понимаю, что она божество, и смотрю на нее как на божество! А тут цветочек, который так и хочется сорвать. А как вы думаете? Ведь Скавронской не будет обидно, если я буду ее любить?
– Женщине никогда не обидно, если ее любят! Даже знаменитая царица древности Семирамида любила, чтобы за ней ухаживали, а не смотрели на нее как на божество.
– Ну а скажите, доктор, цесаревна не рассердится, если я стану ухаживать за ее племянницей?
– Ну, этого я не знаю! Я бы так страшно рассердился, если бы пришли свататься к моей племяннице, когда я сама, ее тетка и уж действительно красавица, еще в девстве обретаюсь.
Шувалов, вслушиваясь в последние слова доктора, взял стул и сел у столика, за которым рисовал Воронцов.
– Тетушка! – сказал с окна Балк, болтая ногами. – Тетушка, разумеется, хороша, очень хороша, да кусочек-то не по нас! А ведь голова-то у всякого одна, и жизнь нам надоесть еще не успела. Михаил Ларионович это как есть рассудил и любит то, что не представляет никакой опасности да и скорее к делу ведет. Он не хочет витать в эмпиреях, а хочет веселым пирком да за свадебку; так ли, дружище?
– Бог вас знает, что вы за народ, – сказал Лесток шутливо. – То будто и не трусы, то робеете сами не знаете перед чем. Один уверяет, что божество, на которое только молиться нужно; другой за свою голову дрожит. Нет, у нас не так водилось. За один взгляд такой красавицы всякий бы жизнь охотно отдал. А что божество-то, так оно точно, только надо спросить, каково будет этому божеству, если ему ни пить, ни есть не дадут, а одними молитвами да восторгами угощать станут? А ведь вы кое-что похожее на это говорите! Ну да дело не в том. Я пришел к вам завтракать и голоден страшно. Надеюсь, вы угостите меня завтраком?