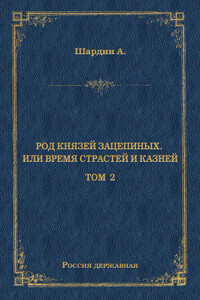– А мои шпионы что скажут? – отвечала цесаревна на слова доктора, опуская глаза и понижая голос до шепота. – Вы сами говорите, что я окружена ими. Я очень хорошо понимаю, что мне действительно необходимо; и понимаю, что вы не напрасно касаетесь этого предмета каждый раз, как я остаюсь с вами. Но что я могу сделать? Я знаю, что я не урод, но всякий думает: мне ведь жизнь не надоела, как-то и сказал мне однажды… Но перестанем об этом говорить. И теперь вы хорошо знаете, что я живу до сих пор уж именно монахиней; но только потому, что изредка позволяю иногда посмеяться или пошутить с кем-нибудь, и тут про меня бог знает чего выдумывают, бог знает чего говорят! Знаете, раз выдумали, будто я осчастливила своею благосклонностию берейтора! И ведь смешно даже: приезжаю я к племяннику в день именин покойной царевны Натальи Алексеевны, а он и не смотрит, и не говорит. Пробовала было сама заговорить. Просто отворачивается, до невежливости. Даже проститься не захотел, как я уезжать стала, видимо, ревнует. Смешно, мальчик почитай, на четырнадцатом году – и ревнует! Однако, думаю, что бы такое? А дело было в том, что у меня во время верховой езды порвалась ленточка у башмака, и я приказала поправить ее берейтору. Из этого сочинили бог знает какую историю. Да чего? Некоторые говорили, будто я очень благосклонно смотрела на старика Меншикова! Некоторые даже не задумывались уверять, что проект Остермана сочинен был им из благодарности за мою доступность. А уж о Минихе и говорить нечего, особенно с тех пор, как он женился на моей воспитательнице. И все отчего? Оттого, что я спокойно слушаю его старческие и ветреные любезности, которые, впрочем, он говорит всякой недурной собой женщине, и что смеюсь над его уверениями, что, роя каналы и штурмуя крепости, он думает только обо мне! Не хотят того понять, что я не могу не считать себя до некоторой степени обязанной оказывать внимание к старым слугам моего отца и что потому не могла и не могу не быть любезной с Меншиковым, Остерманом, Минихом и другими. Вообразите же себе, что было бы, если бы я в самом деле вздумала… Я, слава богу, не дурой родилась и понимаю, что ведь не из земли же мне жениха выкопать по моему вкусу. Но тогда дайте же мне волю. Оставьте меня в покое от ваших наблюдений и преследований. Между тем мне теперь двадцать семь лет (ей в то время было тридцать без нескольких месяцев), и я слишком хорошо понимаю, что, как вы говорите, природы не переломишь. Да и что им за дело до моих чувств, до моего поведения? Ведь я для них вопрос политики, а не нравственности! С политической стороны я доказала, что я не честолюбива, что же им нужно?
– Я думаю, главное – боятся, что тот, кто удостоится вашей благосклонности, пожалуй, будет честолюбив. По крайней мере, думают они, он не будет так спокойно смотреть, что не только у вас отнимаются ваши права, ваши средства, но вас жмут, теснят, стараются унизить и, пожалуй, действительно решились бы на злодейство, если бы не боялись за себя, зная, как вас любит гвардия, которая знает, чья вы дочь… Вот и задача, которая их мучит и щемит, тем более что они все понимают, что права их вымышленные, сочиненные, опирающиеся на пыльные хартии брачных союзов… лучше сказать, у них нет прав! А права ваши в наследстве после вашего отца заключаются в любви к вам народа и войска и в народной памяти о великом государе. Потому я и говорю: решайтесь, если не хотите себя погубить!
– Ах, боже мой, доктор, как вы странно говорите! Будто возможно решиться так скоро на то, что ведет самое меньшее к вечной тюрьме? Да если бы я и решилась, то что бы я могла сделать? У меня нет средств: ни людей, ни денег! Правда, гвардия меня любит, но не может же она не слушать своих командующих, своих генералов! Да и теперь…
– Теперь точно нельзя, упущено время! Но надо быть готовой; ведь, может быть, опять будет случай… Я даже думаю, что он будет скоро. Что же касается средств, денег, людей, то об этом нечего говорить. Может быть, что и средства, и деньги, и люди найдутся. Подумайте-ка, цесаревна! А то, право, вы себя сгубите ни за что! Наконец, если не для себя, то ради памяти вашего отца, великого государя, решиться нужно, непременно нужно: и на то, и на другое. Одно – здоровье, другое – жизнь! А я ваш, неизменно ваш! Приказывайте, распоряжайтесь! Для вас я готов на все пытки…