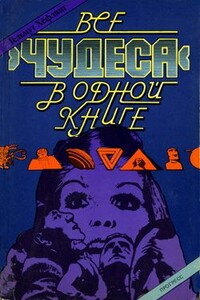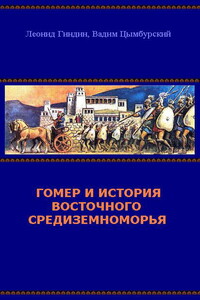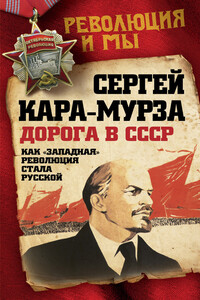Романисты также, как могли, разрабатывали и обогащали спартаковскую тему различными мотивами. В новейшее время его охотно делали носителем свободолюбивых и революционных идей — примером тому могут служить произведения Ипполито Ньево, одного из сподвижников Гарибальди, и американского писателя Говарда Фаста. В вышедшем в 1940 г. романе Артура Кестлера «Гладиаторы» автор говорит о невозможности осуществления разумной и гуманной революции.
Спартак стал героем стихов и поэм, музыкальных драм и балетов и конечно же телефильмов.
Образ античного борца за свободу активно использовался и в политической пропаганде и агитации. В январе 1916 г. Карл Либкнехт начал публикацию своих «Спартаковских писем», а в 1917 г. он вместе с Розой Люксембург создал Союз Спартака, леворадикальную революционную организацию, со времени русской Октябрьской революции исповедовавшую большевистские идеи и на партийном съезде 1918–1919 гг. переименованную в Коммунистическую партию Германии.
Имя фракийского вождя рабов сохранилось в названии малочисленного коммунистического союза студентов «Спартак» (в Западной Германии) и до недавнего времени — в больших спортивных соревнованиях в странах Центральной и Восточной Европы, именуемых спартакиадами.
Со времени восстания гладиаторов и смерти великого вождя рабов прошло две тысячи лет. Так меняется мир.
Итак, перевернута последняя страница, еще немного — и опустится занавес, смолкнут гул амфитеатра, вздохи и стоны несчастных рабов, чеканные речи знатных римлян. И все же, отложив в сторону повествование о Спартаке, любознательный и терпеливый читатель наверняка еще хотя бы ненадолго задержится в мире древности, ведь не сразу сотрутся из памяти, вытесненные новыми впечатлениями, яркие картины тысячелетней римской истории и быта Вечного города, ставшие по воле Г. Хёфлинга фоном одного-единственного события I в. до н. э. — восстания рабов.
Разумеется, сам этот прием — увидеть в малом большое и наоборот, показать одно через другое — далеко не нов ни в беллетристике, ни в научной литературе. Но ведь каждый автор делает это по-своему, в чем и заключается притягательность вечного повторения, казалось бы, одного и того же сюжета. Если бы перед нами лежал исторический роман, следовало бы поинтересоваться мнением литературной критики о том, насколько автору удалось воплотить свой творческий замысел. Но Г. Хёфлинг не писал исторического романа. Жанр его книги можно было бы определить как научно-популярную беллетристику. При этом автор поставлен в весьма определенные условия игры. С одной стороны, ему противопоказан чистый вымысел, фантазия, вовсе не опирающаяся на источники, хотя бы и самые недостоверные, а с другой стороны, ему не положено углубляться в дебри академической науки, ее теоретические и методологические проблемы. Иначе говоря, в такой книге не должно быть места ни романтической любви Спартака к Валерии — жене, а затем вдове Суллы (как в популярном у нас романе Р. Джованьоли), ни высоконаучным дискуссиям о социальном составе войска восставших, наличии или отсутствии классового сознания у рабов и т. п.
Что же остается на долю того, кто решит писать «историческое повествование», а не роман и не диссертацию? Не так уж мало! В его распоряжении «факты», причем здесь важны именно кавычки, которыми столь обильно усеяна книга Г. Х^Нинга. И вводят они не внутренние монологи автора (его как раз будто и не видно), а многочисленные цитаты из античных текстов. Именно их обилие делает книгу максимально познавательной, тем более что он не ограничивается мастерской компиляцией, а, как и полагается профессионалу, везде подчеркивает скудость и противоречивость информации, содержащейся в этих отрывках. В результате читатель оказывается лицом к лицу с так называемой исторической традицией и одновременно сталкивается с возможностью многообразного ее истолкования. Можно включиться в диалог с автором, домыслить собственные интерпретации событий и явлений, может быть, даже и не соглашаться с написанным в книге — все это в пределах правил, ведь Г. Хёфлинг щедро поделился материалом для анализа! Такого же права на собственное мнение не лишен, очевидно, и автор послесловия к русскому переводу книги…