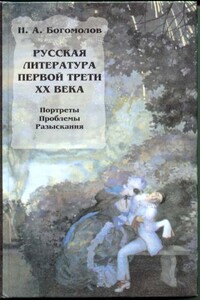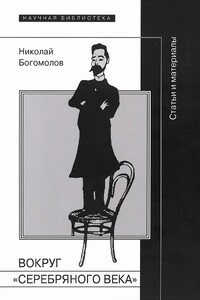Создается впечатление, что нынешнему читателю только и нужно, что поглощать биографии очень и не очень знаменитых людей, приобщаясь к частной жизни всех времен и народов. Виртуальное проживание чужих жизней захватывает подобно наркотику. Но почему именно кем-то беллетризованные биографии, а не мемуары, не переписка, не биографии академические? Можно биться об заклад, что творение Елены Арсеньевой, посвященное любви Абеляра и Элоизы, прочитает на порядок больше людей, чем «Историю моих бедствий» самого Абеляра, а одну из ее последних новинок – биографию Нины Петровской – на несколько порядков больше, чем мемуары Петровской и ее переписку с Брюсовым.
В общем-то, ответ довольно прост. Обыкновенный современный читатель полагает, что он вполне может мериться той же самой меркой, что и описываемый персонаж. Вот только выкинуть из жизни писателя – литературу, композитора – музыку, живописца – картины, философа – идеи, правителя – государственные обязанности, оставить на их месте еду, наряды, физиологию, элементарные реакции, мелкие (или даже не очень мелкие) грешки, и все будет замечательно. В принципе, это то самое, что когда-то сформулировал Пушкин в прославленных словах: «Толпа жадно читает исповеди, записки etc потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабости могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал как мы, он мерзок как мы!»[1472].
Если дать понять этому естественному читателю, что по крайней мере один из подлинных смыслов биографии великого человека состоит в продолжении пушкинской цитаты: «Врете, подлецы: он и мал и мерзок – не так, как вы, – иначе!» – то жизнеописание тут же станет ему неинтересно. Или заинтересует как курьез особого рода, афористически сформулированного в «Двенадцати стульях»: «Вот люди жили!»
Наш гипотетический читатель все время меряется с персонажами своей собственной судьбой и должен или замереть в восхищении, или похлопать по плечу: «Ну что, брат Пушкин?» И ответ уже давно запечатлен Гоголем: «”Да так, брат, – отвечает, бывало, – так как-то все…” Большой оригинал». Замирает в восхищении наш герой перед каким-нибудь душегубом вроде Сталина или прославленной красавицей, как Лиля Брик. Это ведь о ней за последнее время изданы десятки книг, точнее всего смысл которых определяет название чуть ли не самой бездарной: «Лиля Брик: Биография великой любовницы». А всех прочих хочется хлопнуть по плечу и вслух помечтать: «Эх, мы бы с Серегой…»
Соблюсти баланс между двумя этими крайностями необычайно трудно. Проще всего пойти на поводу у читательских ожиданий. Но вряд ли стоит особо разбирать такие сочинения, имя которым легион. Гораздо интереснее посмотреть, как выходят из положения опытные и талантливые литераторы, взявшиеся за такое дело. Вряд ли случайны дискуссии о «Пастернаке» Д. Быкова или биографии Есенина, написанной О. Лекмановым и М. Свердловым. Совершенно разные по своим внутренним качествам, по манере письма, по самим принципам подхода, они тем не менее вызывают на спор (и получают отзывы от восторженных до откровенно заушательских) именно потому, что в них отсутствует подлаживание под читателя. Авторам важно «дойти до самой сути» своего героя, исходя из собственного, высокого прочтения его творений, используя максимально возможное количество информации, накопившейся о нем, но в то же время не переступая границ исторической правды. Мы можем с ними не соглашаться в том или другом, но нельзя им отказать в стремлении понять поэта и его эпоху не по собственному произволу, а по законам, ими самими над собой поставленными.
Именно такого же отношения мы ожидали и от книги Аллы Марченко «Ахматова: Жизнь»[1473]. Побуждали к этому и воспоминания о ее прекрасной документальной повести «С подорожной по казенной надобности», и не раз читанная книга «Поэтический мир Есенина» – едва ли не лучшее исследование о его поэзии. Да и отдельные главы нынешней книги, печатавшиеся предварительно в журналах, тоже казались незаурядными и живо интересными (например, «Новый мир». 2006. № 12; «Дружба народов». 2006. № 10; «Знамя». 2004. № 5). Увы, появившаяся книга представляется не только не сопоставимой с двумя прежними, но даже и хуже своих отдельных частей, прочитанных ранее.