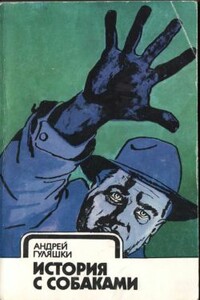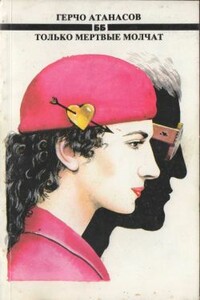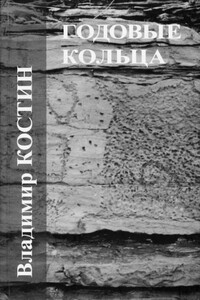— Пора трогаться… Мое время кончается…
И стало ему вдруг страшно жаль жизни: пчел; дома, который давно снесли; Московца; русокосой Ганки, которая каждый вечер приносила в поле воду в тыкве-горлянке, чтобы он сварил похлебку жнецам. Старик оперся на клюку и изо всех сил стиснул ее, задрожав всем телом.
— Велю положить ее со мной в гроб. Пускай с ней и закопают. Как знать, может, пригодится.
Кто-то окликнул его.
Одет синевой Белый камень. На вершине стоит во весь рост столетний дуб. Под ним — могила Пеньо.
— Иду! Иду!
А по дороге он пройдет мимо нив, будет останавливаться на краю и смотреть на них. Какой хлеб вырос! Какой колос, какое зерно налилось! Шумит на ветру. Кто-то будет жать его нынче осенью! Отпустил бы господь Пеньо с неба — только на жатву да на молотьбу. Э-эх! Да вернулись бы прежние лета! Земля горит, чернеет. Желтые груши падают в траву. Жницы поют ясными голосами. А он стоит под грушей и смотрит — ровно ложится сжатый хлеб. Пеньо вяжет, а снопы, как овцы, разбрелись по полю.
Идет дед Пейо мимо нив, пошатывается. За ним, повесив голову, бредет Московец.
— Иду, эй, иду!
Встретит его Пеньо на том свете и спросит:
— Отчего ты меня забыл, отец? Сестра каждую субботу приходила, могилу водой поливала, базилик клала. Днем мне не скучно. Смотрю с высокого места и все вижу — людей в поле, скотину. А ночью остаюсь один-одинешенек. Только дуб надо мной стоит. И будто на месяце бродят тени — ищут кого-то.
Помни мое слово, отец, встану я из гроба. Позову и живых, и мертвых, расскажу им, как дитя плакало в материнской утробе, как земля расступилась, чтобы поглотить тысячи трупов. Заплачут люди. Реки слез потекут, как текли ручьи крови.
— Сынок, не убивайте! Не отрывайте дитя от отцовского сердца. Сердце из груди вырываете. Господи, научи грешных людей добру!
Вот и могила сына.
Семь месяцев минуло с той поры. Рухнул сын, как срубленное дерево, полное влажной силы. Ушел из жизни прежде времени.
Дед Пейо снял шапку.
— Я пришел, сынок.
Здесь лежит Пеньо, здесь зарыт сын деда Пейо. Кажется, вот-вот встанет он из земли — сильный и рослый, черноглазый как мать — и скажет:
— Отец, выпили мою кровь кровопийцы!
И заполыхают его черные глаза, как угли.
— Вот ты где, Пеньо! Ох, устал я, ноги уже не держат.
Старик сел. Опустил глаза и стал смотреть на деревянный крест, на котором висели сухие ноготки и стебель базилика. Рука его тихо и кротко стала гладить землю.
— Зачем ты зовешь меня каждый день?
Где-то за холмами дрогнул и взвился протяжный тоскливый голос. Кто-то поет или кто-то плачет. Нагнувшись над колосьями, ходит и ищет потерянный клад. Старый дуб ударил веткой о ветку, заворчал. Кажется, что деревья в полях сдвинулись с места — искать кого-то. Пошел и сам Белый камень, пошла и могила, пошел и дед Пеньо.
— Куда же нам идти?
Выскочил изо ржи заяц, набрал ходу, пересек всю ниву, остановился на краю, наставил уши и в тот же миг пропал, как серый камень.
А из-под земли идет голос — близкий и страшный.
— Это ты, Пеньо? Добро пожаловать, сынок. Мать твоя уж сколько дней ходит по холмам, тебя ищет. Свихнулась, бедная. Сердце у нее не стерпело. Бродит как шальная. Крошки в рот не берет. Сядет у речки, достанет твою рубаху и плачет. Сказали ей, что ты уехал в город на базар, так она встала рано утром и пошла к самым Осенам — тебя встречать. Я ее уже вечером нашел; стоит на кургане и на дорогу смотрит…
Бывало, идет Пеньо, черный от солнца. На плече блестит коса, в глазах светится мужская сила. У колодца девушки звенят ведрами, окликают его.
А он только и скажет: «Добрый вечер!», да мимо. Идет и о чем-то своем думает. Все какие-то планы строит. Голова невесть чем занята. А девки — загляденье, какую ни возьми, каждой замуж пора, каждой смерть как охота замереть в сильных мужских руках. Эй, Пеньо, не упусти!
Да разве ему втолкуешь! Ему, вишь, надо свои порядки завести на белом свете.
Иной раз встречу его, гляну и спрошу:
— Ну, сколько скосил сегодня?
— Луг повалил.
— Весь?
— А то как же!
Вот ведь что! Никакой работы он не боится! По земле идет — она прогибается. И хлеба перед ним склоняются, и луга. И люди, потому что он каждому правду в глаза говорит.