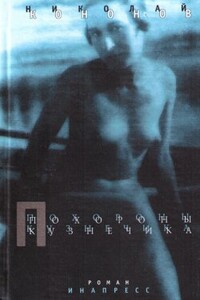Обои были замараны по всему уровню человеческого роста, будто по ним катались промасленные турецкие борцы, и чувство брезгливости останавливало меня, — поэтому я только постукивал по стенам, где наверно остались клочки каких–то стародавних ведомостей с театральными анонсами и едкими рецензиями на артистические происшествия.
Но бумажная поверхность давно покоричневела не от старости, а от дыханья метафизического очага, расположенного в кухонном переделе, где вообще–то по–настоящему никогда не готовили, только бесконечно кипятили чайник за чайником, заваривали кофе, чай и прочие настойки. Но лаконизм коричневой липкости, вошедший в плоть цветочной когда–то бумаги, метафизически подразумевал обильную кухню, как сосредоточие жилища, где какие–то тролли должны были постоянно стряпать прожорливому плотоядному семейству, обожающему прожаренное и пропеченное: картошку на шкварках, беляши в разливах постного масла, пахучую обрезь, томленную в собственном соку с томатной пастой, и царевну кухонного духа — белесую требуху, возбухшую понятно на чем.
Квартира с порога начинала дышать и благоухать сухой истлевающей бумагой, но такой бумагой, которая имеет силы вобрать в себя и оставить в дебрях своих волокон многое, не только не пропуская каждого этапа бытования прошлых насельников, но и предательски разглашая их нынешние пристрастия, которые лучше бы скрыть от посторонних.
Я давно приметил, что в некоторых домах впечатления и догадки имеют силу развиваться сами по себе, без объективно видимых оснований. И не из–за того, что жильцы, как животные, забыли скрыть специальные следы своей неприглядности: ну совсем как блудливые кошки, заполировавшие на уровне вибрисс углы и выступы, или как упорные склочные собаки, разодравшие лапами кромки дверей, закрываемых перед самым их носом.
Так бывает иногда в театре, когда только поднимается занавес, а хороший художник уже расположил всякие штучки, ширмы, драпировки декораций и мебель так, что актеры и прибавить к состоявшейся пьесе вещей уже ничегошеньки не могут. Но художник должен быть очень хорошим.
Итак, бледная востроносая женщина высунулась в щель на многократный едкий звонок, маленькие черные непроницаемые окуляры темных очков уставились в меня через цепочку, прежде чем меня впустили.
Она тонко вскрикнула мне в лицо: «Он это!».
Я подумал: вот бы кто смог сыграть недотыкомку без грима. Одета она была так, что никаких особенностей ее трикотажного серого гардероба запомнить было нельзя, будто все спрядено из одной бесконечной нити. Впрочем, такая вещная неточность всегда главенствовала в этом доме. Там проявлялись совсем другие, смещенные качества объектов имущества.
И вот я, если можно так сказать, вшагнул, и женщина тут же бухнула створкой за моей спиной, провернув замки, будто боялась, что кто–то рвался следом, непрошеный и опасный. Она, виляя, поспешила в туманную глубину жилья, туда, где парили и лопались смешками мыльные пузыри высоких разговоров.
Я заметил, как она расталкивает призрачное табачное марево, заколебавшееся в слабом свету. Она, конечно, понял я, была здесь завсегдатай, ибо знала, на какие паркетины коридора наступать можно, а на какие ни при каких обстоятельствах нельзя без того, чтобы они, ловко вывернувшись, не подставили роковую подножку. По коридору она прошла гулким зигзагом, будто опасалась метких лучников, бьющих по прямой, а может, просто хотела оставить меня погибнуть на этом дубовом болоте. Мне показалось, что ее участие во всем, что воспоследует, этим эпизодом и завершится. «Есть женщины, сырой земле родные», — миролюбиво решил я.
Дверь из туалета в коридор была беспардонно распахнута, и на меня просто выплеснулся настойчивый шум: будто там увлеченно и дерзко чухалось и плескалось крупное земноводное, покрытое водой только на треть. Это сорил капелью никогда не наполняемый бачок. Моя урина заструилась по черному прочерку в ржавом унитазе, готовом повалиться от любого незначительного толчка. К стенке приросла отсыревшая пирамида покоробленных книг писателей–коллаборантов (по преимуществу советских поэтов), опозоренных еще и плошкой окурков в навершии.