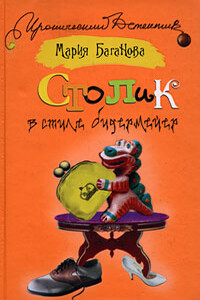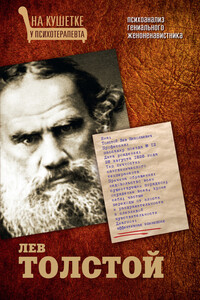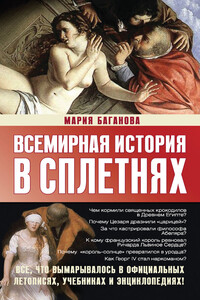– Светлая ей память! – Мы помянули покойницу.
– В семье Ивана Пущина было десять детей, – продолжил рассказ Франц Осипович. – Престарелый дед-адмирал привел двух внуков: кто выдержит экзамен, тому и учиться. Выдержали оба, и тогда жребий пал на старшего, Ивана. Только Владимир Вольховский, сын бедного гусара из Полтавской губернии, шел без протекции, но как лучший ученик Московского университетского пансиона. Жаль! Ах, как жаль, что многие из этих молодых людей так нелепо, так жестоко распорядились своими судьбами! И погубили скольких… Не могу описать ужас и уныние, что овладели мной при том известии! – чуть не плакал Пешель. – Словно я родных своих лишился… Тьфу! И за что? За Константина и Конституцию. А этот Константин… Прости, Господи…
Я, как мог, его успокоил и попросил рассказывать дальше о юности поэта и о Лицее.
– Торжество началось молитвой, – припомнил Пешель. – В придворной церкви служили обедню и молебен с водосвятием. Будущие лицеисты на хорах присутствовали при служении. После молебна духовенство со святой водою пошло в Лицей, где окропило все заведение.
В лицейской зале, между колоннами, поставлен был большой стол, покрытый красным сукном, с золотой бахромой. По правую сторону стола стояли в три ряда лицеисты, директор, инспектор и гувернеры; по левую – профессора и другие чиновники лицейского управления. Император Александр явился в сопровождении обеих императриц, великого князя Константина Павловича и великой княжны Анны Павловны. Приветствовав все собрание, царская фамилия заняла кресла в первом ряду. Министр сел возле царя.
Среди общего молчания началось чтение. Тогдашний директор департамента министерства народного просвещения тонким голосом прочел манифест об учреждении Лицея и высочайше дарованную ему грамоту. Единственное из закрытых учебных заведений того времени, которого устав гласил: «Телесные наказания запрещаются». Из наказаний было только такое: провинившегося ученика заставляли неотлучно находиться некоторое время в своей комнате. За этим следил дядька. Впрочем, и это наказание применялось редко.
Затем выдвинулся на сцену директор Малиновский. Бледный как смерть, начал он что-то читать, но вряд ли многие могли его слышать, так голос его был слаб и прерывист. Увы, природа не дала ему голоса лихого батальонного комиссара перед фрунтом, к тому же Малиновский был необыкновенно скромен. По правде сказать, смущался он и вот из-за чего: Василий Федорович речь читал не свою. Сочиненное им сочли… неподходящим и вручили бедняге другой листок… Эх… – Пешель вздохнул. – Помню прелестную хоть и болезненную императрицу Елизавету Алексеевну. Она как-то умела и успела каждому из профессоров сказать приятное слово. Константин Павлович у окна щекотал и щипал сестру свою Анну Павловну; потом подвел ее к Гурьеву, своему крестнику, и, стиснувши ему двумя пальцами обе щеки, а третьим вздернувши нос, сказал ей: «Рекомендую тебе эту моську. Смотри, Костя, учись хорошенько!» Только этот Гурьев надежды своего крестного отца не оправдал: его исключили года через два.
– За что же? – изумился я.
– За «греческие вкусы», – рассмеялся Пешель. – Так со всей возможной мягкостью сформулировал причину покойный Малиновский. Василий Федорович – скромнейший и добрейший человек, таких порядочных – днем с огнем не сыскать. Да шут с ним, с тем Гурьевым… Ты же о Пушкине спрашиваешь. Жилось ему тут хорошо, как и всем лицеистам.
За чистотой строго следили. Приставленные к лицеистам дядьки убирали их комнаты, чистили сапоги, штопали и стирали белье лицеистов. Отношения учеников с дядьками были добрыми. Воспитанникам нельзя было ездить домой, а если и можно было видеться с родителями, то очень редко. У них было немало уроков, но немало и забав. Обязательно, в любую погоду, – прогулки три раза в день. Особенно веселы они бывали летом, когда в Царском Селе кругом музыка, люди, развлечения. На квартире гувернера Чирикова проходили литературные собрания. Участники по очереди рассказывали повесть: начинает один, другие продолжают. Лучшим рассказчиком был Антон Дельвиг, ему уступал даже Пушкин.