Пушкин — либертен и пророк. Опыт реконструкции публичной биографии - страница 77
Пушкин, конечно, не мог не читать «Обозрения». В «Стансах» слова о «буйных стрельцах» представляют собой довольно прозрачную аллюзию на недавние события; такая оценка ближе всего именно к этому правительственному документу («Вчерашний день будет без сомнения эпохой в истории России. В оный жители узнали с чувством радости и надежды, что государь император Николай Павлович воспринимает венец своих предков ‹…› Но Провидению было угодно сей столь вожделенный день ознаменовать и печальным происшествием, которое внезапно, но лишь на несколько часов возмутило спокойствие в некоторых частях города»[460]). Очень скоро тон правительственных заявлений меняется, и уже в «Манифесте» от 19 декабря концепция «заговора» торжествует над концепцией «мятежа». Карамзин от работы над «Манифестом» фактически отстраняется.
В созданных больше чем год спустя после написания «Обозрения» «Стансах» Пушкин близок по тону именно к этому документу, не заслоненному более поздними правительственными сообщениями, прежде всего знаменитым «Донесением», писанным все тем же Блудовым, но уже безо всякой ориентации на Карамзина. Промелькнувшее в «Обозрении» определение восставших как «безумцев» было в определенной степени близко Пушкину; и когда Дельвиг называет В. К. Кюхельбекера, самого близкого Пушкину участника восстания, «наш сумасшедший (у Пушкина „сумашедчий“. — И. Н.) Кюхля» (XIII, 260), Пушкин подхватывает эту мысль: «Кюхля ‹…› охмелел в чужом пиру» (XIII, 262) — и развивает ее во время разговора с императором (в пересказе Л. С. Пушкина, переданном Н. И. Лорером): «— Можно ли любить такого негодяя как Кюхельбекер? — продолжал государь. — ‹Пушкин› Мы, знавшие его, считали всегда за сумасшедшего, и теперь нас может удивлять одно только, что и его с другими, сознательно действовавшими и умными людьми, сослали в Сибирь»[461]. Оценка восставших как «безумных либералистов» содержалась в упомянутом выше письме Карамзина И. И. Дмитриеву от 19 декабря 1825 года.
Возможно, что Пушкин знал содержание этого письма от самого Дмитриева, с которым поэт возобновил знакомство в сентябре 1826 года. 29 сентября он читает «Бориса Годунова» в доме у Вяземского специально для Дмитриева и Д. Н. Блудова. После чтения следует обсуждение трагедии, во время которого речь могла пойти и о недавно ушедшем из жизни Карамзине, — его памяти Пушкин посвятил «Бориса Годунова».
При очевидно отрицательном отношении Карамзина к восстанию и восставшим, в его оценке последних как «безумных либералистов», а самого восстания как спонтанного мятежа крылось желание умалить вину декабристов и защитить общество от правительственного террора. И этим же мотивом руководствовался Пушкин; при этом и его представление о восставших как о безумцах, посягнувших «на силу вещей», скорее всего соответствовало сложившемуся у него к концу 1826 года взгляду на историю. Подобная позиция не вызывала восторгов у либерально настроенной части общества, в том числе и у самих декабристов, но давала возможность и Карамзину, и Пушкину просить власть о милосердии к восставшим. У Пушкина это «Стансы»; что же касается Карамзина, то молва приписывала ему прямое заступничество за декабристов. Мнение многих выражал декабрист А. Е. Розен, передавая слова, якобы сказанные Карамзиным Николаю:
Ваше величество! Заблуждения и преступления этих молодых людей суть заблуждения и преступления нашего века[462].
Считалось, что если бы Карамзин дожил до суда над декабристами, то смертных казней не было бы вообще. Осведомленный современник вспоминал:
Никто не верил ‹…› что смертная казнь будет приведена в исполнение, и будь жив Карамзин, ее бы и не было — в этом убеждены были все[463].
Пушкина сближало с Карамзиным и положительное отношение к новому императору. Кажется цитатой из письма Карамзина Дмитриеву строка из «Стансов» «неутомим и тверд», что, конечно, свидетельствует не о формальном заимствовании, а об общности восприятия фигуры нового императора Пушкиным и Карамзиным.
Оптимизм Пушкина в отношении нового императора понятен: поэт очень не любил прежнего, считал его двоедушным, ленивым, трусливым («в двенадцатом году дрожал»), пренебрегающим национальными интересами. М. Г. Альтшуллер в своей статье, посвященной гражданской лирике Пушкина, показал, что образ нового царя в «Стансах» строится «как противопоставление положительного начала отрицательному опыту предшествующей эпохи»




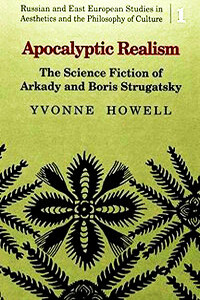
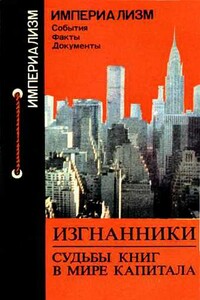
![Музыка прозы И.С. Тургенева [статья]](/build/no_cover.398201c8.jpg)