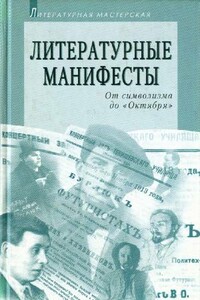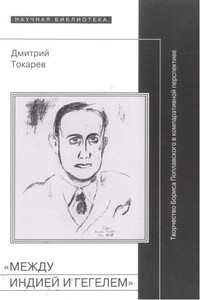Пушкин сам испытал некоторый мистический восторг, когда сбылось первое, как он считал, пророчество, сделанное им в «Андрее Шенье». Так, узнав о неожиданной смерти императора Александра, как представлялось поэту, им предсказанной в «Андрее Шенье», он писал Плетневу 4–6 декабря 1825 года: «Душа! я пророк, ей-богу пророк! Я Андрея Ш‹енье› велю напечатать церковными буквами во имя от‹ца› и сы‹на› etc.» (XIII, 249). Характерно, что в письме Плетневу уже фигурирует ключевое слово «пророк», и вполне возможно, что эта автохарактеристика впоследствии трансформировалась в заглавие для соответствующих «пророческих» строф.
Пророческий характер стихотворения «Андрей Шенье» определялся не только случайным совпадением описанных Пушкиным обстоятельств казни французского поэта с событиями русской истории. Как раз к реальной истории казни, которую Пушкин знал из биографического очерка А. де Латуша, пророчество Шенье не имело никакого отношения. Как показал В. Э. Вацуро, Пушкин ориентировался на традицию провиденциальной французской литературы, в частности на трагедию Франсуа-Жюста-Мари Ренуара (1761–1836) «Тамплиеры» (1805). Сюжетную основу трагедии составляет легенда о великом магистре ордена тамплиеров Жаке Моле, сожженном на костре в 1314 году и перед гибелью предсказавшем смерть своим палачам, папе Клименту V и королю Филиппу[391].
Таким образом, широкий круг исторических ассоциаций, могущих восприниматься как предсказания и пророчества, был определен некоторой составляющей прагматики текста «Андрея Шенье». Это же обстоятельство делало, по мысли Пушкина, возможным распространение стихотворения, поскольку оно на самом деле было написано до восстания декабристов. До декабря 1826 года, когда поэт был привлечен к следствию по делу о распространении «Андрея Шенье», у Пушкина существовало ложное впечатление о политической неуязвимости как автора, так и его возможных слушателей. А в том, что он распространял не пропущенные цензурой строки, имеются его собственные показания[392].
Можно, между прочим, дать объяснение тому, что Пушкин рассказывал историю о «возмутительном» и одновременно «предсказательном» стихотворении многим, но не Вяземскому; дело в том, что Вяземский был единственным из москвичей, кто еще в 1825 году получил полный текст «Андрея Шенье» (ср. письмо П. А. Вяземскому от 13 июля 1825 г. — XIII, 188).
Как известно, следствие по делу об «Андрее Шенье» не смогло выявить всех причастных к его распространению лиц, кроме А. И. Алексеева, А. Ф. Леопольдова и Л. А. Молчанова. Мужественная скромность Алексеева и самого Пушкина, к счастью, навсегда оставили предположение о распространении выпущенных строф «Андрея Шенье» среди московских любомудров в области гипотез. Однако рассказ Шевырева, Соболевского и Погодина о пушкинском стихотворении в «возмутительном духе», так и не представленном императору, удивительным образом совпадает с историей другого осведомленного мемуариста, Ф. Ф. Вигеля, дяди А. И. Алексеева. Последний за распространение «Андрея Шенье» был приговорен к смертной казни; приговор был впоследствии значительно смягчен. Рассказывая о представлении Пушкина императору (примерно с такой же степенью исторической достоверности, как Соболевский, Погодин, Шевырев и Нащокин), Вигель вместо означенного другими мемуаристами стихотворения «Пророк» называет «Андрея Шенье», а именно «небольшую только часть его стихотворения», которую «цензура не пропустила»[393]. Неопубликованные строки из «Андрея Шенье» никогда не появлялись в печати при жизни поэта, а были впервые опубликованы в России в относительной полноте только в 1870 году, то есть после смерти всех тех, кто мог его слышать в сентябре — октябре 1826 года. Таким образом, никто из них, исключая Погодина (ум. в 1875 г.), не имел возможности их идентифицировать. Кроме того, период распространения «Андрея Шенье» — с сентября 1826 года, когда Пушкин приехал в Москву, до января 1827 года, когда поэт был привлечен к следствию об «Андрее Шенье», — оказался очень коротким, что, возможно, и создало у мемуаристов впечатление, что Пушкин его уничтожил.