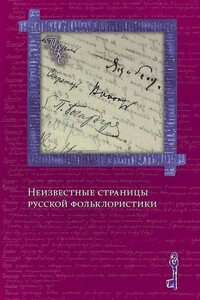Пушкин — либертен и пророк. Опыт реконструкции публичной биографии - страница 54
При этом следует учитывать, что такое отношение у Пушкина возникло не сразу — тогда, когда он проведал об этом обстоятельстве, летом 1824 года, иначе вряд ли бы он сам взялся за мемуары подобного рода, — а спустя почти год, в ноябре 1825-го, когда стало ясно, что из его работы почти ничего не вышло. Симптоматично, что в этом же письме Вяземскому, где Пушкин оправдывает уничтожение «Записок» Байрона, он признается в собственной творческой неудаче на этом пути:
Писать свои Memoires заманчиво и приятно. Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать — можно; быть искренним — невозможность физическая. Перо иногда остановится, как с разбега перед пропастью — на том, что посторонний прочел бы равнодушно. Презирать — braver — суд людей не трудно; презирать [самого себя] суд собственный невозможно (XIII, 244).
Тем самым Пушкин резко расходится с той оценкой байроновских «Записок», которую дал «Сын Отечества»: «Пишут, что он (Байрон. — И. Н.) произносит в ней (автобиографии — И. Н.) строгий суд над самим собою» (1824. № 221. С. 40–41).
Таким образом, хотя до пушкинского признания Вяземскому в том, что АЗ уничтожены (сделанного 14 августа 1826 года), пройдет еще год, Пушкин уже к концу 1825 года проговаривается, что дописать мемуары не сможет. В то же время, уверяя друзей об уничтожении фактически не написанных АЗ, Пушкин приписывает им статус особо интимного документа. Эти рассказы, при всей своей очевидной проекции на историю сожжения байроновских «Записок», содержат элемент полемики с Байроном, поскольку мораль их — в том, что Пушкин смог сделать то, чего не смог сделать Байрон, а именно «произнести строгий суд над самим собой». И проявилось это не в том, что именно поэт написал о себе, поскольку все равно в АЗ «быть искренним — невозможность физическая», — а в том, что у поэта хватило критического отношения к себе, чтобы уничтожить их самому, не перекладывая это нужное дело на плечи друзей. Отвлекаясь несколько в сторону, могу сказать, что друзья вполне усвоили его завет и после смерти поэта сделали все возможное, чтобы обстоятельства его личной жизни не становились достоянием биографов[335].
Что же касается АЗ, то — независимо от того, были они написаны или нет, — рассказ об их уничтожении стал важнейшим слагаемым творческой биографии. Здесь возникает своеобразная параллель с поэтической работой Пушкина: в начале 1825 года вышла первая глава «Евгения Онегина», где точками были обозначены строфы, которые автор не смог или не посчитал нужным включить в это издание. В конце главы Пушкин поместил небольшое примечание: «N. В. Все пропуски в сем сочинении, означенные точками, сделаны самим автором» (VI, 638). Как установил Модест Гофман, три строфы первой главы, обозначенные точками и номерами 39–41, никогда и не были написаны[336].
Обозначая точками «пропущенные» строфы, которые написаны не были, Пушкин утверждает принцип, понимаемый им как байроновский и состоящий в том, что значимость некоторых текстов обусловлена исключительно тем, каким образом маркировано их отсутствие. Этот принцип предполагает некоторую иерархию «отсутствующих» компонентов художественного текста. На первом месте здесь будет стоять авторское свидетельство о собственноручном уничтожении рукописи; за ним пойдет не авторизованная информация об уничтожении рукописи, восходящая к друзьям автора. Поэтому собственноручное якобы уничтожение Пушкиным своих АЗ, дабы избежать «вранья» и не «умножать числа жертв», — выше попыток Байрона рассказать о вещах, о которых (как убежден Пушкин) невозможно говорить правдиво и искренне.
Размышляя о мемуарной прозе, не только собственной и байроновской, но и о мемуарах Наполеона и «Исповеди» Ж. — Ж. Руссо, поэт приходил к выводу о том, что этот жанр невозможен «без вранья», поскольку ставит писателя перед необходимостью судить самого себя, к тому же — ретроспективно. Подобная оценка отражала не только опыт собственной неудачи Пушкина, но и уровень русской автобиографической прозы того времени. Жизнь там фиксировалась не только непосредственно, но и дистанцированно. Оценочные суждения были столь же редки на страницах дневников пушкинских современников, как и проявления саморефлексии




![Музыка прозы И.С. Тургенева [статья]](/build/no_cover.398201c8.jpg)