Существенным же шагом в сторону большей радикализации политической позиции Пушкина может представляться оправдание в «Кинжале» самого политического убийства, столь решительно осужденного в оде «Вольность». Однако и в «Кинжале» тираноубийство не представляется нормальным средством политической борьбы, а скорее эксцессом, оправданным не только особыми историческими условиями, но и высокими нравственными качествами самого тираноубийцы, гарантией того, что его поступок не преследует личной выгоды. Поэтому в целом политическая концепция «Кинжала» не противостоит политической концепции оды «Вольность», а дополняет ее.
Сам исторический процесс в «Вольности» и «Кинжале» изображен в полном соответствии с принципами романтической историографии[291] — как цепь героических поступков. Такое отношение к истории изживалось Пушкиным уже в начале 1820-х годов, когда в работе над «Заметками по русской истории XVIII века» закладывались основы пушкинского историзма. Однако оценка исторических событий с этической точки зрения — эта черта исторического мышления Пушкина — сохранилась и в его позднейшем творчестве. (Ср., в частности, пушкинскую оценку нравственной чистоты и самоотверженности Радищева при негативном отношении к его политическим убеждениям в статье «Александр Радищев» — подробнее см. далее в главе «Автобиографизм и статья Пушкина „Александр Радищев“».)
Представляется возможным связать проблематику «Кинжала» с теми общественно-политическими вопросами, которые волновали Пушкина в период написания стихотворения. При этом, учитывая интенсивный характер развития общественного мировоззрения Пушкина, необходимо уточнить это время.
В записной книжке Пушкина[292] черновики «Кинжала» находятся между планами «Кавказского пленника» (л. 39), запись «Orlov disait en 1820…» («Орлов говорил в 1820 г…» (л. 40), черновиками «Кавказского пленника» (л. 40 об. — 42 об.), планом поэмы (?) о Вадиме (л. 43–43 об.) и стихотворением «Аглае» (л. 46). Последний лист черновика «Кинжала» (л. 63) фактически заканчивает записную книжку и находится перед финалом «Кавказского пленника» (л. 64). Этот лист содержит портреты кишиневских знакомых Пушкина: Тодора Балша, К. А. Катакази, Торсис Катакази, Калипсо Полихрони[293].
На листе имеется четкая дата «14 juin 1822», однако вряд ли эта дата имеет отношение к стихотворению «Кинжал». Дело в том, что и дата, и рисунки появились на листе тогда, когда тетрадь находилась в нормальном, горизонтальном положении, тогда как черновой текст стихотворения записан поперек листа. В пушкинском перечне стихотворений (1822) «Кинжал» отнесен к 1821 году[294]. То, что в перечне «Кинжал» помещен сразу после «Кавказского пленника», дало основание M. А. Цявловскому датировать стихотворение мартом 1821 года (II, 1091), так как считалось, что «Кавказский пленник» окончен в феврале 1821 года. Однако в записной книжке хронологические рамки работы Пушкина над «Кавказским пленником» выглядят несколько иначе: листы с 32-го по 39-й заполнялись поэтом в двадцатых числах ноября — начале декабря 1820 года, когда он находился в Каменке[295]. Именно поэтому начало работы над «Кинжалом» следует отнести к декабрю 1820 года. Данное соображение подтверждается и идущим в записной книжке сразу же за «Кинжалом» стихотворением «Аглае», посвященным А. А. Давыдовой и также, скорее всего, написанным в Каменке. Несомненно, что работа над стихотворением продолжалась и позже декабря 1820 года, так как имеющиеся в записной книжке черновики не отражают полного текста «Кинжала», в них даже не упоминается имя Занда. Следовательно, работа над стихотворением захватила и начало следующего, 1821 года и пришлась, таким образом, на время интенсивного общения Пушкина с южными декабристами, прежде всего с М. Ф. Орловым.
Из письма Е. Н. Орловой от 23 ноября 1821 года А. Н. Раевскому мы узнаем, что тема споров Пушкина в это время — «вечный мир аббата Сен-Пьера»:
Он убежден, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир и что тогда не будет проливаться иной крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями, с предприимчивым духом, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда будут считать лишь нарушителями общественного спокойствия




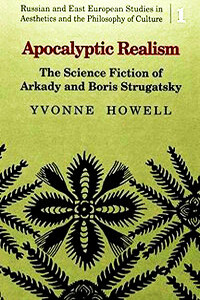
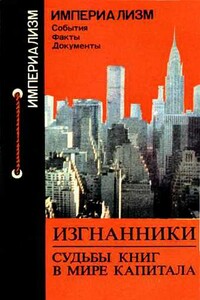
![Музыка прозы И.С. Тургенева [статья]](/build/no_cover.398201c8.jpg)