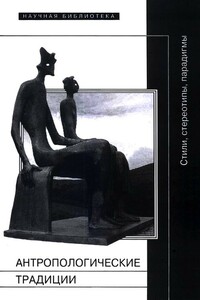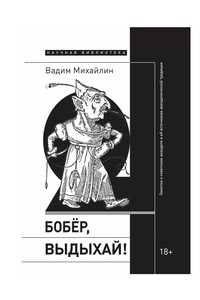Известного вам Пушкина стихи печатают в журналах, с означением из Кавказа, видно, для того, чтобы известить об нем подобных его сотоварищей и друзей[174].
Очевидно, что граф имел в виду публикацию «Эпилога» к «Руслану и Людмиле» в сентябре 1820 года в «Сыне отечества» с пометой «26 июня 1820 г. Кавказ».
В октябре 1820 года в Петербурге произошло восстание Семеновского полка. Одним из главных подозреваемых по этому делу проходил директор солдатских школ взаимного обучения, редактор «Сына отечества» и публикатор произведения, обратившего на себя неблагосклонное внимание Аракчеева, — Н. И. Греч. Тогда же, в октябре — ноябре 1820 года, полиция проявляет повышенный интерес к деятельности петербургских непубличных обществ, в том числе «Зеленой лампы»[175]. В январе 1821 года Александр получает донос Грибовского о деятельности Союза Благоденствия, где содержится предупреждение о том, что роспуск Союза на деле означает уход движения в подполье. Легенда гласит о том, что Александр отказался преследовать членов Союза, сказав Васильчикову «Не мне их судить», на деле же из гвардии и армии были удалены все, «кто не действует по смыслу правительства»[176]. Историк С. Н. Чернов точно назвал этот процесс, пришедшийся на 1821–1823 годы, «борьбой за армию»[177]. Несомненно, весна 1821 года с точки зрения правительства была наихудшим временем для возвращения Пушкина в Петербург, тем более что сюда доходят не только доброжелательные отзывы о нем. Так, в ноябре 1820 года Е. А. Энгельгардт сообщает А. М. Горчакову: «Пушкин в Бессарабии и творит там то, что творил всегда: прелестные стихи, и глупости, и непростительные безумства»[178].
Весной 1821 года о каких-то антиправительственных высказываниях Пушкина доносит агент тайной полиции[179].
В то же время нет никаких данных о том, что именно император инспирировал пролонгацию пушкинской ссылки; более того — на официальный запрос Каподистрии Инзову из Лайбаха в Кишинев в апреле 1821 года, просмотренный и отредактированный императором («Повинуется ли он ‹Пушкин› теперь внушению от природы доброго сердца или порывам необузданного и вредного воображения»[180]), следовал вполне благожелательный отзыв о Пушкине[181].
Поэтому, скорее всего, решение о том, что Пушкину не следует возвращаться в Петербург, приняли его друзья. В первую очередь А. Тургенев, который не стал обращаться с соответствующей просьбой к императору. В письме И. И. Дмитриеву (13 мая 1821 года) это мотивируется следующим образом: «…но в поведении не исправился: хочет непременно не одним талантом походить на Байрона»[182].
Представляется, что нежелание правительства «при сих смутных обстоятельствах» возвращать Пушкина в Петербург полностью совпадает с подобным же нежеланием его друзей, в первую очередь А. И. Тургенева.
Определенную роль в этом прискорбном для него нежелании сыграл сам Пушкин, вернее, так блестяще сложившийся в течение 1820 года образ его, который совпадал с байроновским «не одним талантом». Байронизм не предполагал скорого возвращения поэта в метрополию. Заметим, что пушкинское наполнение байроновского образа не совпадало с тем, что вкладывали впоследствии в понятие байронизма (как то: изгнание, странствия и т. п.) его читатели. Таким образом, желание Пушкина придать своему отъезду характер добровольного и полностью свободного не нашло у них поддержки.
Осознание своего пребывания в Бессарабии как «изгнания» и «ссылки» для Пушкина выходило за рамки байронизма и вызвало необходимость привлечения для метафоризации этого состояния нового образа, каковым и стал образ Овидия.
При этом если публичная констатация творческой и биографической близости Пушкина с Байроном, произошедшая первоначально в результате не только и даже не столько творческих усилий самого поэта, в дальнейшем получила развитие в его поэзии и поведении, то сознательное обращение Пушкина к образу Овидия не получило никакого публичного подкрепления. Произошло это потому, что для самого Пушкина превращение его добровольного отъезда в ссылку стало своего рода неожиданностью, тогда как для всех остальных это было как бы очевидно с самого начала. Отсутствие столь важной для Пушкина добровольной мотивировки отъезда из Петербурга не помешало публике воспринимать пушкинскую судьбу на «байроновском фоне». И «Овидиева» тема, казалось бы, ситуативно более близкая пушкинской судьбе, чем байроновская, уходит из пушкинской лирики.