Итак, то, что «Деревня» не была напечатана, не проходила цензуру, но расходилась в списках, находилось в полном соответствии с желаниями императора. Не случайно последний выразил благодарность Пушкину «за чувства, которые внушают его стихи»[128]. Заметим также, что литературные конфиденты императора столкнулись с определенными трудностями, когда в 1819 году искали ему свежие пушкинские произведения. Так, в 1819 году в печати появилось всего одно стихотворение, а именно «Ответ на вызов…» (ср. с предыдущими годами: в 1818 году — пять, в 1817 — шесть, в 1816 — три, в 1815 — семнадцать стихотворений[129]). Как видно из приводимой «статистики», начиная с 1817 года творческая продуктивность Пушкина неуклонно падала, и к 1820 году он был известен как поэт лишь в относительно узком кругу «арзамасцев». Правда, в «Воображаемом разговоре…» Пушкин утверждает, что все возмутительные сочинения ходили под его именем, имея в виду, конечно, не печатные издания, а списки. Возможно, это говорит о том, что отсутствие его произведений в печати не означало реального падения творческой продуктивности, а подразумевало хождение большого количества стихотворений в списках?
Определение подлинного числа пушкинских стихотворений и эпиграмм, ходивших в списках накануне его высылки из Петербурга, — сложная исследовательская проблема. Можно привести всего лишь несколько неподцензурных пушкинских произведений 1817–1819 годов, публичная известность которых определенно приходится именно на этот период. Прежде всего, это «Вольность», затем эпиграмма на А. С. Стурдзу; кроме того, Пушкин фактически сам сознается в том, что ему не без основания приписывали эпиграмму на Карамзина, разошедшуюся после выхода первых томов «Истории государства Российского». Некоторое распространение в списках получила, видимо, и «Деревня». Более всех в творчестве Пушкина конца 1810-х годов был осведомлен А. И. Тургенев; в своих письмах 1817–1820 годов он упоминает следующие произведения Пушкина, не прошедшие цензуру: «Тургенев, верный покровитель…» (1817)[130]; «Бессмертною рукой раздавленный Зоил…» (1818)[131]; «В себе все блага заключая…» (1819)[132]; послания А. Ф. Орлову и В. В. Энгельгардту (1819)[133]; «Ода на с[вободу]» («Вольность»)[134]; «Деревня» (1819)[135]; «Стансы на Стурдзу» (1819)[136]; «Платоническая любовь» («Платонизм», 1819)[137]. Эти, и, как можно утверждать с весьма большой вероятностью, только эти стихотворения составляли круг произведений поэта, ходивших в списках, по крайней мере в «арзамасском» кругу до южной ссылки.
Следует особо поставить вопрос о самом остром политическом произведении Пушкина петербургского периода — об эпиграмме на Аракчеева («Всей России притеснитель…»). Нет никаких данных о том, что она была известна публике ранее марта 1820 года. «Большое» академическое собрание сочинений осторожно датирует ее создание 1817-м — мартом 1820 года. Осторожность нелишняя, если учесть, что только в марте 1820 года эпиграмма становится достоянием общества, тогда как это совсем не то произведение, которое молодой Пушкин написал бы «в стол». Скорее всего, оно и было написано весной 1820 года и как бы инспирировано всей ситуацией той весны.
Итак, можно почти наверняка утверждать, что публика не восприняла инсинуацию о «порке Пушкина» исключительно как сплетню о наказании за оппозиционное поведение и/или вольнолюбивые стихи. Более того, только самые близкие друзья в конце 1819 года видели в Пушкине исключительно поэта, да и то в значительной степени потому, что возлагали большие надежды на работу над «Русланом и Людмилой», о чем публика не знала. А. И. Тургенев выражал общее мнение «арзамасцев», когда писал Вяземскому в феврале 1820 года:
Племянник ‹В. Л. Пушкина› почти кончил свою поэму. ‹…› Пора в печать. Я надеюсь от печати и другой пользы, личной для него: увидев себя в числе напечатанных и, следовательно, уважаемых авторов, он и сам станет уважать себя и несколько остепенится. Теперь его знают только по мелким стихам и по крупным шалостям (курсив мой. — И. Н.)[138]




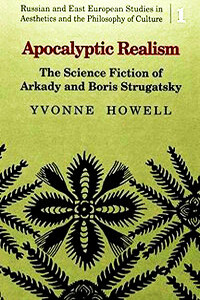
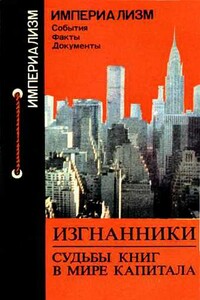
![Музыка прозы И.С. Тургенева [статья]](/build/no_cover.398201c8.jpg)