Говорят, что один из них ‹лицеистов›, Пушкин, по высоч‹айшему› пов‹елению› секретно наказан. Но из воспитанников более или менее есть почти всякий Пушкин[119].
Историка литературы, занимающегося проблемами литературной репутации Пушкина, не может не волновать вопрос о том, почему часть общества поверила этому чудовищному слуху, — ведь в 1819 году нужно было иметь чрезвычайно богатое воображение, чтобы представить себе выпоротым дворянина, к тому же состоящего на государственной службе.
Возможно ли, что свое распространение сплетня получила потому, что, как утверждал сам Пушкин, «всякое слово вольное, всякое сочинение противузаконное» приписывали в это время ему? Иными словами, имел ли Пушкин к весне 1820 года репутацию человека, известного оппозиционными сочинениями и/или образом действий? Анализ высказываний даже самых близких и расположенных к нему современников не позволяет сделать подобный вывод. Скорее наоборот, так, даже такой благожелательный мемуарист, как И. И. Пущин, передавал свое впечатление от поведения Пушкина конца 1810-х годов следующим образом:
Между тем ‹…› Пушкин, либеральный по своим воззрениям, имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышева, Киселева и других; они с покровительственной улыбкой выслушивали его шутки, остроты[120].
Опубликованное в 1819 году стихотворение «Ответ на вызов написать стихи в честь Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Елисаветы Алексеевны в „Соревнователе Просвещения и Благотворения“» также не было воспринято современниками как излишне оппозиционное. Правда, существует остроумная точка зрения А. Н. Шебунина на то, что околодекабристское «Общество Елизаветы», куда входили некоторые члены Союза Благоденствия, рассматривало Пушкина как своего потенциального члена, а его творчество — как возможное средство мягкой оппозиционной агитации[121]. Даже если Пушкин и состоял членом «Общества Елизаветы», этот факт все равно не был широко известен и, стало быть, не много менял в его общественной репутации 1819 — начала 1820 годов[122].
Несколько поверхностной представляется нам сейчас точка зрения М. В. Нечкиной, нашедшей в мемуарах декабриста Горсткина подтверждение участия Пушкина в работе тайных обществ[123]. Они свидетельствуют об этом не в большей степени, чем строки самого Пушкина: «Читал свои ноэли…»
Не способствовал утверждению мнения об оппозиционности поэта и эпизод с подношением стихотворения «Деревня» императору Александру I. И дело было не только в том, что Пушкин видел «рабство падшим по манию царя». Само обращение к теме крепостного рабства в контексте общественного движения второй половины 1810-х годов считалось антидворянским, а не оппозиционным по отношению к правительству[124]. В стремлении Александра I ограничить крепостное право видели (и справедливо!) желание нанести удар по дворянству, а не просто освободить крестьян. А. И. Тургенев нашел в «Деревне» «преувеличения насчет псковского хамства»[125]. Тургенев был не просто благожелательным к Пушкину корреспондентом, но придерживался близких Пушкину взглядов на крепостное право, определенных (как и в случае с Пушкиным) вполне антидворянской позицией его младшего брата, Николая Ивановича Тургенева[126].
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что стихотворение «Деревня» было представлено императору. Несмотря на это, оно не публиковалось, но бытовало в списках, что также не свидетельствовало об оппозиционности поэта. Ко времени создания стихотворения (1819) существовал запрет печатно обсуждать что бы то ни было относительно крепостного права, притом что именно этот и последующие годы были весьма богаты различного рода записками антикрепостнического содержания; их писали люди из ближайшего к императору окружения: А. А. Аракчеев, П. Д. Киселев, А. С. Меншиков, М. Ф. Орлов (до опалы)[127]. Именно в контексте этих не слишком конфиденциальных и проправительственных сочинений и следует рассматривать стихотворение «Деревня».




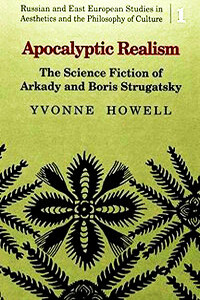
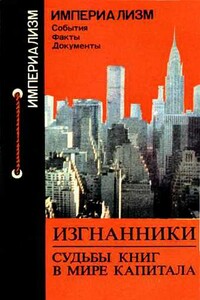

![Музыка прозы И.С. Тургенева [статья]](/build/no_cover.398201c8.jpg)